Интеллектуальный облик литературного героя - [3]
Художник находит такие положения и средства, при помощи которых он может наглядно показать, как эти индивидуальные стремления перерастают рамки чисто-личного мира.
Именно в этом заключается секрет возвышения индивидуальности до типа, без сглаживания и даже, напротив, посредством усиления ее особенных черт. Конкретно очерченное сознание, — так же, как и последовательно развитая, до предела выросшая страсть, — дает индивидууму возможность выявить дремлющие в нем особенности. Художественная правда требует, чтобы литературное развитие определенных черт героя, — пусть даже развитие вплоть до гротеска, — опиралось только на то, что уже есть в человеке, как возможность. Иначе литература впадает в ходульность. Идейный мир изображаемого индивидуума нельзя отрывать от реально существующих в человеке возможностей. Идейный образ, в основе которого нет живой игры страстей, всегда будет бескровным и отвлеченным (как это часто бывает у Расина и Шиллера). Этот образ может быть значительным и типичным только в том случае, если художнику удалось проследить многообразную связь личных черт своего героя с объективными и общими проблемами эпохи, если персонаж переживает, зримо для нас, самые, казалось-бы, отвлеченные проблемы своего времени как самые индивидуальные, кровно его интересующие вопросы.
В этой связи совершенно ясно, что способность героя к обобщающему мышлению играет огромную роль для литературного произведения. Обобщение только тогда превращается в пустую абстракцию, когда из поля нашего зрения уходит связь отвлеченного мышления с теми личными переживаниями героя, которые читатель (невольно испытывает вместе с ним. Если же художнику удается изобразить эту связь с достаточной полнотой, то насыщенность литературного произведения столкновениями идей не только не препятствует художественной конкретности образов, а, наоборот, усиливает ее.
Напомним "Годы учения Вильгельма Мейстера" Гете. Важнейшая часть этого замечательного романа содержит рассказ о подготовке к представлению "Гамлета". При этом Гете, в противоположность тому, как поступил бы в этом случае Золя, уделяет очень мало внимания описанию технических частностей спектакля. Подготовка к представлению у него, прежде всего, чисто интеллектуальная; перед нами проходит целый ряд спорных, противопоставляемых друг другу толкований характеров отдельных фигур из "Гамлета", противоположных мнений о композиционном принципе пьесы Шекспира, споров о драматической поэзии и т. д. Анализ этих проблем здесь нисколько не абстрактен в художественном смысле слова. Каждое суждение, каждая реплика, каждое возражение не только дает нечто новое для понимания темы, но всякий раз открывает новую и более глубокую черту в характере персонажа и, притом, такую черту, которая не проявилась бы вне этого спора о "Гамлете". Индивидуальное своеобразие Вильгельма Мейстера, Зерло, Аврелия и других открывается именно в том, как они — каждый по-своему, — как теоретик, актер или режиссер, — пытаются осмыслить шекспировскую проблему. Их интеллектуальный облик вполне определяется в этих опорах. Он завершает изображение их индивидуальностей, объединяет в органическое 'Целое отдельные черты и свойства этих людей.
Но интеллектуальный облик персонажей имеет еще большее значение для композиции произведения. Андре Жид в своем анализе творчества Достоевского очень тонко и верно заметил, что каждый крупный художник создает известную иерархию действующих лиц. Эта. иерархия очень показательна для общественного содержания вещи и для мировоззрения автора, ко она интересна также как важное средство для группировки персонажей от центра произведения к его периферии. Другими словами, эта иерархия влияет на композицию произведения.
Мы коснемся здесь этой проблемы с формальной стороны. В каждом хорошо построенном произведении несомненно имеется (иерархия действующих лиц; художник определяет для каждого из своих персонажей тот или иной "ранг", который делает данное лицо главной или эпизодической фигурой. В плохо построенном произведении читатель сам инстинктивно ищет подобную иерархию и бывает разочарован, если центральная фигура романа не занимает по отношению к другим действующим лицам то место, которое ей принадлежит по праву.
Но "ранг" центрального героя в огромной мере зависит от степени осознания им своей судьбы, от его способности осмыслить превратности своего личного развития, подняться до конкретного понимания общих проблем. Шекспир во многих драмах (зрелого периода своего творчества) прибегает к параллельному изображению двух сходных жизненных путей; при этом "ранг" главного героя, его предназначение быть центром всего произведения определяется способностью героя к сознательному обобщению своих переживаний. Укажу хотя бы на общеизвестные параллели: Гамлет — Лаэрт и Лир — Глостер. В обоих случаях главное действующее лицо превосходит эпизодическое тем, что оно не воспринимает свою личную судьбу как простую цепь случайностей и не реагирует на происходящее только непосредственно. Глубочайшая, индивидуальная черта этих возвышенных образов состоит именно в том, что они стремятся всем своим существом выйти за пределы непосредственно данного и рассматривают свой жизненный, путь в целом в его связи с общественными судьбами человечества.
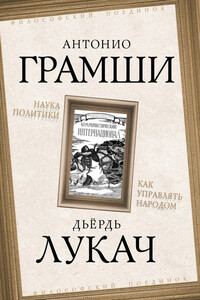
Антонио Грамши – видный итальянский политический деятель, писатель и мыслитель. Считается одним из основоположников неомарксизма, в то же время его называют своим предшественником «новые правые» в Европе. Одно из главных положений теории Грамши – учение о гегемонии, т. е. господстве определенного класса в государстве с помощью не столько принуждения, сколько идеологической обработки населения через СМИ, образовательные и культурные учреждения, церковь и т. д. Дьёрдь Лукач – венгерский философ и писатель, наряду с Грамши одна из ключевых фигур западного марксизма.

"Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены" #1(69), 2004 г., сс.91–97Перевод с немецкого: И.Болдырев, 2003 Перевод выполнен по изданию:G. Lukacs. Von der Verantwortung der Intellektuellen //Schiksalswende. Beitrage zu einer neuen deutschen Ideologie. Aufbau Verlag, Berlin, 1956. (ss. 238–245).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.
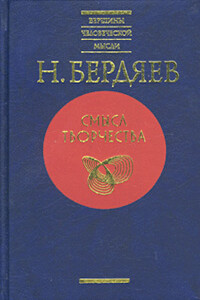
«… Постановка „Бесов“ в Художественном театре вновь обращает нас к одному из самых загадочных образов не только Достоевского, но и всей мировой литературы. Трагедия Ставрогина – трагедия человека и его творчества, трагедия человека, оторвавшегося от органических корней, аристократа, оторвавшегося от демократической матери-земли и дерзнувшего идти своими путями. Трагедия Ставрогина ставит проблему о человеке, отделившемся от природной жизни, жизни в роде и родовых традициях, и возжелавшем творческого почина.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сокращенный перевод с немецкого. Статья полностью напечатана в «Internationale Literatur Deutsche Blatter», 1939, №№ 6 и 7.Литературный критик. 1940 г. № 11–12.