Инки - [34]
Создавая и развивая институт аклья, или «избранных женщин», Инка преподносил тысячи и десятки тысяч женщин в дар Солнцу, делая того своим должником. В то же время аклья исполняли для Инки, воплощения дневного светила, одну из тех же супружеских обязанностей, что и для своего «мужа»: они готовили еду и маисовое пиво, которые получали от правителя те, что работали на его землях или строили его дома и дороги, — словом, то же самое, что должна была сделать любая супруга для соседей, явившихся помочь ее мужу возделать почву или заменить кровлю. Отношения между богами и людьми становились, таким образом, столь же близкими, как и те, что связывают, через брачный союз, два семейства: как зять во всем помогает родителям жены, так и бог распространял на своих новых сородичей всю свою плодородную силу, в обмен на домашние, кулинарные и сексуальные услуги жены или даже жен.
Жертвоприношения
Посвящение человеческой жизни предку или кому-либо божеству иногда требовало жертвоприношений. Приношения в жертву людей, однако же, никогда не достигали такого масштаба, какой им придавали ацтеки, центральноамериканские современники инков. В большинстве своем они совершались в двух исключительных случаях. Первым была смерть некого знатного инки или же правителя: часть его жен и слуг приносили себя в жертву, после чего их должны были захоронить вместе с усопшим. Так, вместе с умершим Уайна Капаком в потусторонний мир отправились примерно 1000 человек. Другим поводом для жертвоприношения являлась одна из самых торжественных церемоний религиозной жизни в Инкской империи, проходившая при участии множества людей. То был большой акт приношений, называемый капак хуча, что переводится как «долг правителя» или «большое подношение». Проходила сия церемония в критических для Инки обстоятельствах, как то: приход к власти, рождение сына (которому, в силу крайне высокой детской смертности, грозила опасность), болезнь или же подготовка к трудной войне. Когда назначался капак хуча, каждая деревня (и даже каждый род) собирала подношения (дорогие ткани, золото, серебро, скот, детей примерно десятилетнего возраста и т.д.), которые затем перевозились местными священниками и касиками в Куско. Все дары, в том числе и сопровождаемые матерями дети, выстраивались на площади Аукайпата и представали перед великими богами и мумиями правителей, которых по этому случаю выносили из их обиталищ. После совершения серии обрядов и молитв переходили к пожертвованию части этих даров: предметы сжигались или предавались земле, тогда как у большого количества лам и некоторых детей вырывали сердца, чтобы преподнести их богам. «Плоды», так сказать, этих пожертвований распределялись затем по окрестным храмам. Освященные пребыванием в религиозном центре мира, прочие дары развозились по провинциальным святилищам, где приносились в жертву уака. Умерщвленные дети становились объектами местных культов. По всей Империи каждый взрослый мужчина получал в каком-либо сосуде немного крови принесенных в жертву лам, крови, которую должен был отвезти в одно из святых мест, располагавшихся на его территории. Участвовать в этом обряде общности были обязаны все главы семейств империи, и кровь, прибывшая из ее сердца — Куско — растекалась по всему Тауантинсуйу. Представители провинций возвращались затем в столицу, где пировали и принимали подарки от Инки (текстиль, предметы, изготовленные из перьев птиц, золотые и серебряные изделия, женщин и слуг). С собой они привозили уака завоеванных народов, которые тоже получали дары либо оставались без оных — в зависимости от того, правильно ли они сами (или представляемые ими провинции) сотрудничали с Инкой. После этого сановники и уака возвращались домой. По сути, капак хуча являлся возможностью для Инки провести новые переговоры и укрепить отношения с каждым народом Империи, в особенности — в экономической и военной сферах. Также он служил для подтверждения верности местных вождей Инке, так как умерщвленные дети зачастую принадлежали именно к семье касика, который благодаря этой жертве продлевал свои полномочия. С другой стороны, получая от своих подданных множество лам и детей, приносимых затем в жертву уака, Инка позиционировал себя в качестве крупного поставщика жизненной силы для этих божеств и мог надеяться на то, что они наделят его могуществом, которое поможет победоносно противостоять той критической ситуации, которая и подтолкнула его к этому «великому подношению».
Иные сверхъестественные силы
В андском представлении все существа были персонами, наделенными неким внутренним миром, аналогичным тому, каким обладают люди, что позволяло им соблюдать приличия и даже вступать в отношения обмена. Относилось это правило и к маису с картофелем (для земледельцев), и даже к драгоценным металлам (для рудокопов). Однако же не каждое растение, фрукт или самородок становились объектом подобных отношений, и уж тем более культа. Напротив, получение хорошего урожая или достижение прекрасного качества металла освобождали от такого обмена, к примеру, самый крупный початок маиса, самую большую картофелину или золотой (либо серебряный) самородок. Этот «анормальный» образчик получал название мама, то есть «мать» маиса, картофеля или металла, так как его выдающиеся размеры свидетельствовали о том, что именно от него исходит та плодородная сила, которая позволяет расти другим. «Матери», таким образом, становились «собеседниками» более высокого статуса по сравнению с тем, коим обладали обычные съедобные растения или же самородки. С ними можно было на равных обсуждать плодородие того или иного поля либо рудника (к слову, по отношению к руднику применялся тот же термин, что обозначал «поле»: чакра). «Матери маиса» (сарамама) даже считались второстепенными женами предка-родоначальника айлью, а иногда — и самого Уари. Стало быть, сам итог сельскохозяйственного размножения есть плод, появившийся на свет в результате брака между жаркой и влажной сущностью, представляющим Уари (или воплощающего его прародителя), и некой растительной породой. Сарамамы хранились под амбарами, предназначенными для маиса. Логика такой «матери» определяла два важных культа. С одной стороны, то был культ Пачамамы, «матери Солнца», объединявший духов мест (уака) и соблюдавшийся в регионе Куско и в высокогорьях. С другой стороны, то был культ Мамакучи, «матери озер», который обозначал океан и, как предполагалось, должен был в изобилии обеспечивать андские озера, с отходившими от них многочисленными ирригационными каналами, водой.

Эта книга — не учебник. Здесь нет подробного описания устройства разных двигателей. Здесь рассказано лишь о принципах, на которых основана работа двигателей, о том, что связывает между собой разные типы двигателей, и о том, что их отличает. В этой книге говорится о двигателях-«старичках», которые, сыграв свою роль, уже покинули или покидают сцену, о двигателях-«юнцах» и о двигателях-«младенцах», то есть о тех, которые лишь недавно завоевали право на жизнь, и о тех, кто переживает свой «детский возраст», готовясь занять прочное место в технике завтрашнего дня.Для многих из вас это будет первая книга о двигателях.

Главной темой книги стала проблема Косова как повод для агрессии сил НАТО против Югославии в 1999 г. Автор показывает картину происходившего на Балканах в конце прошлого века комплексно, обращая внимание также на причины и последствия событий 1999 г. В монографии повествуется об истории возникновения «албанского вопроса» на Балканах, затем анализируется новый виток кризиса в Косове в 1997–1998 гг., ставший предвестником агрессии НАТО против Югославии. Событиям марта — июня 1999 г. посвящена отдельная глава.
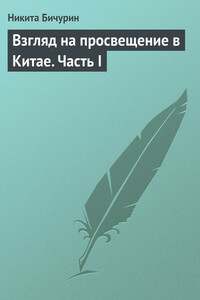
«Кругъ просвещенія въ Китае ограниченъ тесными пределами. Онъ объемлетъ только четыре рода Ученыхъ Заведеній, более или менее сложные. Это суть: Училища – часть наиболее сложная, Институты Педагогическій и Астрономическій и Приказъ Ученыхъ, соответствующая Академіямъ Наукъ въ Европе…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга — история жизни знаменитого полярного исследователя и выдающегося общественного деятеля фритьофа Нансена. В первой части книги читатель найдет рассказ о детских и юношеских годах Нансена, о путешествиях и экспедициях, принесших ему всемирную известность как ученому, об истории любви Евы и Фритьофа, которую они пронесли через всю свою жизнь. Вторая часть посвящена гуманистической деятельности Нансена в период первой мировой войны и последующего десятилетия. Советскому читателю особенно интересно будет узнать о самоотверженной помощи Нансена голодающему Поволжью.В основу книги положены богатейший архивный материал, письма, дневники Нансена.
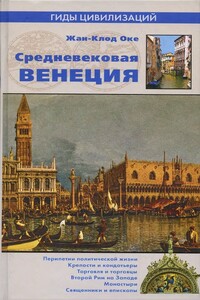
Когда-то Венеция была столицей могущественной республики, имевшей большое влияние в Средиземноморье. Ныне это прекрасно сохранившийся древний город, история которого тесным образом связана с историей европейской культуры. Французский историк Ж.-К. Оке в своей книге «Средневековая Венеция» ограничивает «время действия» рамками 1500 года. По мнению автора, именно средневековый период Венецианской республики наиболее интересен, так как в это время здесь в полной мере определились черты уникальной цивилизации, оказав на Европу важное культурное и политическое влияние.
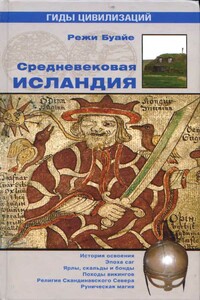
Исландия — холодный остров в приполярном океане между Европой и Гренландией, край скал и гейзеров, пристанище бесстрашных викингов и мудрых песнопевцев-скальдов… Духовное наследие Исландии — это бесценный заповедник северной культуры, неповторимый мир скандинавских саг и рунической тайнописи, причудливый, словно магический лабиринт. Вступайте в этот мир без страха заблудиться, ведь путеводитель по нему — у вас в руках.
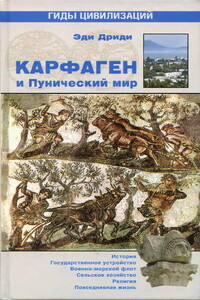
Величественный, мрачный и могучий город, грозный владыка морей, средоточие кровавого культа Молоха — таков Карфаген в расхожем мнении современного человека, в романах и кинофильмах. Насколько обоснован такой образ? Автор этой книги на обширном историческом и археологическом материале воссоздает иную, но ничуть не менее впечатляющую картину поистине великой культуры, незаслуженно забытой, фактически уничтоженной Римом. Нераскрытой тайной веков предстает перед читателем погибшая литература Карфагена, возможно, хранившая ключи к загадкам Атлантиды.
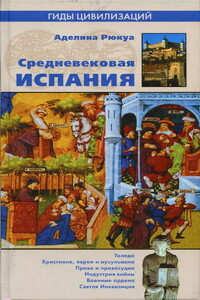
Иберийский полуостров — уникальный регион, на территории которого в течение многих веков жили вместе христиане, евреи и мусульмане. Это совместное существование дало начало единственной в своем роде цивилизационной модели. Она стала результатом такого непосредственного восприятия и такой глубокой переработки каждым народом полуострова различных, порой взаимоисключающих влияний, что можно говорить о единой культуре, характерной для Средневековой Испании.