Императорское королевство - [120]
— Ja, ja, ich kenne Sie Herr Richter, ich bin aber unschuldig! — оживился он, подогреваемый собственным убеждением, что нашел лучший способ добиться цели. Петкович во дворе встал на колени, то же сделал сейчас и он перед Мутавцем. — Was, Sie glauben mir nicht, dass ich unschuldig bin?[105] — Эта смертельная маска в самом деле может свести с ума. Он схватил Мутавца за горло, но сознательно сильно не сжимает, а только трясет, трясет. Руки у него в крови, лицо красное. — Фи упийца, упийца!
Майдак в испуге отпрянул. У Мутавца глаза не вылезли из орбит, они только широко раскрылись, а сам он хрипит, стонет, голова беспомощно мотается в разные стороны.
Все остолбенели. Потеряв власть над всеми и над собой, Бурмут колотит Розенкранца ключами и орет:
— Охрана, охрана!
Прибежал Юришич с подушкой.
— Вы его задушите! — оторопел он, бросил подушку и попытался оттащить Розенкранца, сначала тот сопротивлялся, цепко держался за свою жертву, потом, словно очнувшись от криков Юришича, стремительно вскочил и вцепился ему в горло.
— Sie wollen mich ins Dunkl! Ich bin loyal![106] Упийцы! Упийцы!
Поднялся переполох. Новоиспеченный симулянт устроил настоящий сумасшедший дом. Все сплелись в один плотный клубок, только Мачек и Ликотич отбежали в сторону.
— Охрана! Ребятки! Охрана!
— Herr Doctor, ich lass mich nicht ins Dunkl![107]
— Рехнулся! — крикнул Мачек кому-то в дверь. Он убежден, что Розенкранц выдал его на следствии. А в дверях в это время появился Рашула. Остановился и смотрит.
— Симулянт! — кричит он и бросается вперед. Тем временем Розенкранц, отчаянно пытаясь убежать, увлек за собой весь этот клубок человеческих тел. Рашула ринулся прямо к нему. — Симулянт!
— Упийца! — Розенкранц вытянул руку, а Рашула ее схватил.
— Doktor Pajzl ist tot, Sie Simulant! Schlag hat ihn unten Soeben getroffen![108]
— Мутавац! Мутавац! — Юришич вырвался из свалки и выбежал за порог. Кричит там, но никто его не слушает.
— Hier muss man verrückt werden! — чуть не плачет от отчаяния Розенкранц и таращится на Рашулу в ужасном смятении. У Пайзла сердечный удар? Наверняка его не выпустили на свободу! — Aber…[109]
— Blöder Kerl![110] Этот симулянт копирует Петковича в его сумасшествии. — Рашула отталкивает его и, засмеявшись, поворачивается ко всем остальным. Торопясь в суд, он узнал у охранника у ворот, что вначале туда вызывали Пайзла. И действительно, он как раз шел навстречу с иронической усмешкой: почему бы и нет, даже охранник знал, что Пайзл через минуту будет на свободе. Услышав шум на третьем этаже, Рашула вернулся туда; ему любопытно, что с Мутавцем, а там, видите ли, Розенкранц вздумал прикидываться сумасшедшим. Тотчас же смекнул, что надо ошеломить его выдумкой о смерти Пайзла. Задумано — сделано, и он продолжает теперь лгать уже всем остальным, поглядывая в сторону Мутавца и Юришича. — Истинная правда, лежит внизу мертвый!
— Ах, как остроумно! — опять рассмеялся Мачек, раскусив обман.
— Тихо! — прошипел Бурмут и замахал руками, чтобы все расходились. А сам уставился на дверь, ведущую с лестницы в коридор. Оттуда донеслись знакомые голоса, все их услышали. Ликотич, а следом за ним Мачек кинулись в камеру, но было уже поздно. Дверь открылась, появился человечек в черном костюме, старый, в золотом пенсне на черном шелковом шнурке. Он внимательно оглядел коридор через стеклышки. Рядом с ним ростом чуть повыше и тоже в гражданской одежде тюремный инспектор. И начальник тюрьмы тут же.
— Что это? Что это значит? — гнусавит господин в пенсне. — Надзиратель, что это за беготня, что за порядки здесь у вас?
Бурмут вытянулся, щелкнул каблуками, и странно было видеть этого выжившего из ума старика, стоявшего по стойке смирно. Он оторопел, слова не мог вымолвить. Это сам председатель суда, несколько месяцев он не показывался здесь.
— Ваше превосходительство!
— Это безобразие, господин инспектор, — ледяным тоном цедит он. — Здесь надо навести порядок.
— Господин начальник, — передает нагоняй инспектор, — сколько раз я вам говорил и еще раз повторяю…
— Я, я… — растерянно бормочет начальник тюрьмы, — я надзирателю строго приказал, чтобы здесь были порядок и спокойствие.
— Здесь вольница, на тюрьму не похоже, как на городских гуляниях, — настойчиво продолжает председатель суда. — Это противозаконно. Лампа, вижу, разбита, смех, тут тебе и мертвец, и сумасшедший! Надзиратель, что это значит? Вы что, все с ума посходили? Так не должно быть!
— Ваше превосходительство, — встрепенулся Бурмут. — Я, как могу, навожу порядок, но что с воров возьмешь, потому и попали в тюрьму, что исправить их нельзя. А сейчас так уж случилось, потому что, потому что, — он показывает на Мутавца, — мертвец ожил, а сумасшедший, говорят, симулирует.
— Как симулирует? Что вы такое говорите? Вы не имеете права никого называть вором! Как ожил? Мертвый и вдруг живой, что это значит? — председатель суда направляется в канцелярию, где в дверях Юришич поддерживает Мутавца, и, переходя с шепота, говорит все громче, почти кричит:
— Господин Мутавац, ваша жена на свободе, рожает, может быть, у вас уже появился ребенок, очнитесь! — по рукам его течет теплая кровь изо рта Мутавца. Течет или уже перестала? Молча смотрит на него Мутавац широко раскрытыми глазами. Юришич тоже замолчал. Рядом с ним Майдак, он вытирал платком кровь Мутавца, но сейчас перестал, стоит окаменевший.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.
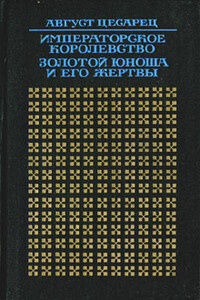
Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.

«В знойный, ясный июльский день 1768 года, по Луговой улице (ныне Морская), что прилегала к Невскому проспекту в Санкт-Петербурге, часу в третьем дня, медленно двигалась огромная карета очень неказистого вида. Она вся вздрагивала, скрипела и звенела гайками при каждом толчке; казалось, вот-вот развалится допотопный экипаж; всюду виднелись какие-то веревочки и ремешки. Наверху ее были грудой навалены сундуки, ларцы и корзины самых разнообразных форм; позади, на особом плетеном сиденье, похожем на мешок из веревок, сидел парнишка лет пятнадцати и, разинув рот, поглядывал по сторонам…».
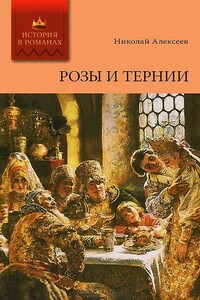
Николай Николаевич Алексеев (1871–1905) — писатель, выходец из дворян Петербургской губернии; сын штабс-капитана. Окончил петербургскую Введенскую гимназию. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Всю жизнь бедствовал, периодически зарабатывая репетиторством и литературным трудом. Покончил жизнь самоубийством. В 1896 г. в газете «Биржевые ведомости» опубликовал первую повесть «Среди бед и напастей». В дальнейшем печатался в журналах «Живописное обозрение», «Беседа», «Исторический вестник», «Новый мир», «Русский паломник».
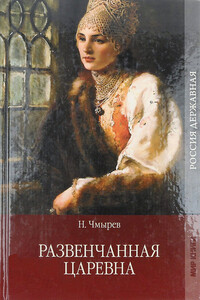
Николай Андреевич Чмырев (1852–1886) – литератор, педагог, высшее образование получил на юридическом факультете Московского университета. Преподавал географию в 1-й московской гимназии и школе межевых топографов. По выходе в отставку посвятил себя литературной деятельности, а незадолго до смерти получил место секретаря Серпуховской городской думы. Кроме повестей и рассказов, напечатанных им в период 1881–1886 гг. в «Московском листке», Чмырев перевел и издал «Кобзаря» Т. Г. Шевченко (1874), написал учебник «Конспект всеобщей и русской географии», выпустил отдельными изданиями около десяти своих книг – в основном исторические романы. В данном томе публикуются три произведения Чмырева.

В тихом городе Кафа мирно старился Абу Салям, хитроумный торговец пряностями. Он прожил большую жизнь, много видел, многое пережил и давно не вспоминал, кем был раньше. Но однажды Разрушительница Собраний навестила забытую богом крепость, и Абу Саляму пришлось воскресить прошлое…
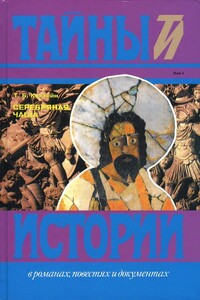
Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.
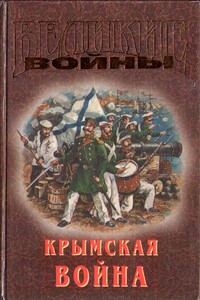
Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.
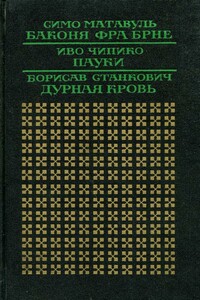
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.

В лучшем произведении видного сербского писателя-реалиста Бранимира Чосича (1903—1934), романе «Скошенное поле», дана обширная картина жизни югославского общества после первой мировой войны, выведена галерея характерных типов — творцов и защитников современных писателю общественно-политических порядков.
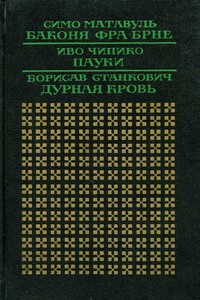
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.
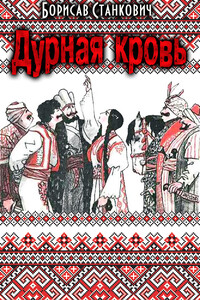
Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейший представитель критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В романе «Дурная кровь», воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, автор осуждает нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.