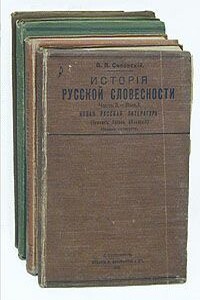Имажинист Мариенгоф - [60]
Докучаев — человек, вокруг которого часто появляются каталоги. Таким образом, повествователь характеризует его как некоторое олицетворение нэпа, буржуазного предпринимателя, разбогатевшего благодаря новой политике. С помощью каталогов метонимический образ Докучаева строится из огромного количества внешних деталей и объектов, принадлежащих ему, — с одной стороны, он более раздроблен, чем другие персонажи романа, с другой, он хамелеон-человек, несущий в себе огромный потенциал изменения:
Чем больше я знаю Докучаева, тем больше он меня увлекает. Иногда из любознательности я сопутствую ему в советские учреждения, на биржу, в приемные наркомов, в кабинеты спецов, к столам делопроизводителей, к бухгалтерским конторкам, в фабкомы, в месткомы. В кабаки, где он рачительствует чинушам, и в игорные дома, где он довольно хитро играет на проигрыш.
Я привык не удивляться, когда сегодня его вижу в собольей шапке и сибирской дохе, завтра — в пальтишке, подбитом ветром, послезавтра — в красноармейской шинели, наконец, в овчинном полушубке или кожаной куртке восемнадцатого года (С. 109–110).
Изменчивость Докучаева не выражается исключительно в одежде, он постоянно меняет свое выражение лица, жестикуляцию, взгляд, походку и речь: он говорит с вологодским, украинским и «чухонским» акцентом; на жаргоне газетных передовиц, съездовских делегатов, биржевых маклеров, старомоскворецких купцов, братишек, бойцов и т. д. Перечисляя черты, свойства и предметы при описании Докучаева, Мариенгоф как будто создает определенного идеального персонажа имажинистского монтажного произведения. Благодаря своей хамелеонской многоликости, Докучаев способен к отношениям со всеми остальными объектами (которыми становятся по ходу чтения и персонажи) произведения. Однако вряд ли его можно считать положительным героем — он бесчувственный оппортунист, расширение изображения которого прежде всего является свидетельством ограниченности и скучности этого персонажа.
Образ Докучаева нуждается также в реконструирующем читателе. В эпизоде, где он появляется впервые [1922: 18], его ладони сразу приобретают доминантное значение:
Он смущенно, будто первый раз в жизни, рассматривает свои круглые, вроде суровых тарелок, ладони. Глаза у Докучаева — темные, мелкие и острые, обойные гвоздики.
— Запомните, пожалуйста, что после сортира руки полагается мыть. А не лезть здороваться (С. 98).
«Обойные гвоздики», изображающие глаза Докучаева, повторяются уже в следующем фрагменте, где они «делаются почти вдохновенными» (С. 100), но они появляются также в эпизоде, где Владимиру становится понятно, что Докучаев бьет свою жену. Однако образ ладоней (вместо «суровых тарелок» они связываются с «обойными гвоздиками») оказывается и здесь важнее:
Спрашиваю Докучаева:
Илья Петрович, вы женаты? Он раздумчиво потирает руки:
А что-с?
Его ладонями хорошо забивать гвозди <…>
Вот если бы вы, Илья Петрович, мою жену… по щекам… Докучаев испуганно прячет за спину ладони, которыми удобно забивать гвозди (С. 125–126).
Далее, через несколько страниц, образ ладоней Докучаева еще раз «уточняется», чтобы соответствовать событиям романа и возможным смысловым соотношениям:
Илья Петрович ударяет ладонь об ладонь. Раздается сухой треск, словно ударили поленом о полено (С. 132).
Таким образом, мы можем реконструировать метафору ладоней Докучаева: полено, которым удобно забивать гвозди. Сравнение последней цитаты оказывается особенно значимым, если учесть ее связь с эпизодом, где Владимир собирается покончить с собой и слышит крик женщины сквозь дверь:
Визгливый женский голос продырявил дверь. Я оглянулся в сторону затейных растеков и узорчиков собачьей мочи. Мягко и аппетитно чавкнуло полено. Неужели по женщине? (С. 46).
Это повторяющееся в романе изображение можно, таким образом, связать с центральным садистическим эпизодом из «Магдалины», в котором поэт Анатолий собирается убить героиню и поет одновременно арию из оперы Леонкавалло: «Кричи, Магдалина! Я буду сейчас по черепу стукать / Поленом… / Ха-ха! Это он — он в солнце кулаком — бац! / «Смеее-й-ся, пая-яц…»[604]
3.5. Монтажный роман
Возникновение монтажной прозы в русской литературе конца 1920-х годов представляет собой существенный контекст творчества Мариенгофа. В «литературе факта» монтаж означает — по крайней мере, на уровне деклараций — работу над готовым и исключительно документальным, часто литературно-биографическим материалом. Роль автора — что сопоставимо с представлением об авторстве в кубистских коллажах, раннем монтажном кино или в монтажной поэзии — заключается в организации этого материала в смысловое целое. К этому стремилось и несостоявшееся общество «Литература и быт». В конце 1920-х годов монтаж определяется уже в простейшем варианте как жанр, тесно связанный с общей ориентацией на мемуарную литературу, на жанр биографической книги, — в этой связи часто упоминаются роман Тынянова Кюхля[605] (1925), творчество Пильняка[606] или книга Вересаева о Пушкине.[607] Как специфический литературный жанр монтаж отличается от мемуаров несубъективностью и емкостью материала — в монтаже, в отличие от субъективных мемуаров, материал задан, и авторская задача состоит в организации предложенного материала в удовлетворяющем его порядке.

Сборник научных работ посвящен проблеме рассказывания, демонстрации и переживания исторического процесса. Авторы книги — известные филологи, историки общества и искусства из России, ближнего и дальнего зарубежья — подходят к этой теме с самых разных сторон и пользуются при ее анализе различными методами. Границы художественного и документального, литературные приемы при описании исторических событий, принципы нарратологии, (авто)биография как нарратив, идеи Ю. М. Лотмана в контексте истории философского и гуманитарного знания — это далеко не все проблемы, которые рассматриваются в статьях.
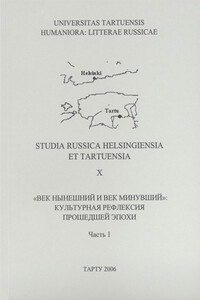
Очередная часть исследования финского литературоведа, посвященная творчеству Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897–1962) и принципам имажинистского текста в контексте соотнесения с Оскаром Уальдом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.