Игра в классики. Русская проза XIX–XX веков - [149]
С елкой замешкались. Наконец, появляются сестры в белых косыночках и говорят: идем. И что тут началось. Через двор по снегу припустились горохом вперегонку, сбились в кучу у широких дверей, подняли писк, едва пролезли.
Елка стояла под самую досчатую крышу, вся в ангелах, яблоках, золотых конях. Сбоку на помосте готовилось представление. Сестры наряжали девочек в бумажные юбочки, в колпачки, одному нацепили бороду. И хоть было холодно – мне, например, и в шубе – все равно наряженные не мерзли.
Представление же я увидал на другой елке. Там в теплой избе устроена маленькая сцена, аршина два в ширину, убранная сосновыми ветвями и бумажными фонариками. Перед сценой куча-кучей, друг на дружке, зрители. Позади сцены стоял хор; сестра подняла руку, и они запели: «Прилетали птицы из-за синя моря, пели они, распевали, – кто у нас за морем больше, кто у нас меньше всех», и т. д. Затем вышли двое – Ваня Луферчик и Миша Павлович: один – в девять вершков росту, другой – немного повыше. Ни на кого не обращая внимания, повернулись они друг к другу носом и стали говорить стихи в один голос. Очень было хорошо. Затем пели, танцовали, и вышел такой маленький человек, что ему никак нельзя было дать больше трех лет. Был он в серой бумазейной рубашке, в таких же штанах, в сапогах и руки держал по швам. Он вышел и низко поклонился, потом еще раз поклонился, и так до шести раз, покуда не собрался с духом и рассказал про обезьяну и очки.
А когда я вышел и вспомнил опять про последнего артиста, мне стало грустно: показалось, будто кланялся он – точно благодарил, что не дали ему помереть с голоду[323].
Как явствует из этого очерка, даже такое демократическое начинание, как Земсоюз, питалось кипучей энергией одного человека и управлялось совершенно диктаторскими методами своего очаровательного главы.
Вскоре насчет дальнейшей службы Толстого в Земсоюзе возникают совершенно хлестаковские проекты. То Вырубов хочет устроить авиаремонтные мастерские и Толстой должен поехать куда-то изучать деревянные запчасти аэропланов; то его собираются отправить в киргизские степи (не иначе как уроженца этих самых киргизских степей) – чтобы исследовать быт киргизов, которыми на фронте почему-то заинтересовались. Сам он явно больше всего хочет вернуться в Москву, где вот-вот должна родить жена, добивается отпуска и поспевает туда как раз вовремя – к Февралю. Следующие корреспонденции Толстого в «РВ» – очерки «Первое марта» и «Двенадцатое марта» – это уже восторженные зарисовки ранней революционной эйфории. Затем сотрудничество с газетой прекратится.
В парижской эмиграции Земсоюз будет вначале помогать ему деньгами, выделяя их на его журнальные и издательские проекты. Но позднее, когда печатью Земсоюза станет заведовать Полнер, деньги он давать писателю перестанет и печатать его откажется[324]: Толстой для него – чересчур правый.
Критические отклики. В VI томе Толстой на первое место поставил «Поездку по Англии», а военные очерки начал с цикла «На Кавказе» – то есть расположил материал в обратном хронологическом порядке. Он угадал, что новые кавказские публикации окажутся привлекательнее для читателя, чем уже печатавшиеся в книге статьи 1914 года.
Его военные очерки и рассказы критике в основном нравились: Ал. О<жигов> (псевдоним А. Ашешова) писал в рецензии на первое издание книги «На войне», что Толстой остался «цельным и вдумчивым художником», в котором «нет шовинизма и опьянения жутко-сладким вином войны, нет развязности и бахвальства, нет националистической слащавости и приторности»[325].
По словам рецензента, «автор ищет того нового, что приносит с собой война Руси». Он «улавливает эти душевные сдвиги и уже конкретно говорит о самоочищении русской души в смысле нового самопознания, нового утверждения личности и ее достоинства». Правда, в отличие от автора, социал-демократ Ашешов считает, что подобные сдвиги – результат не столько военной бури, сколько следствие того, что он называет «мирным развитием страны после 17 октября 1905 года».
Все критики отмечают, что очерки Толстого запечатлели слишком много внешних впечатлений и слишком мало места уделяют психике. Но одновременно эти рецензенты переносят внимание именно на то, что свидетельствует об обратном. Так, критик Вл. Кранихфельд в «Киевской мысли» фокусируется на толстовском сопоставлении между войной и театром:
Поражаясь «невероятной пропастью между здесь и там» [гр. Т.] <…> проводит параллель между театром как зданием, где даются трагические представления, с одной стороны, и между театром военных действий. «Трагический театр, говорит автор, – низводит нас до конца, до крайней мысли перед вечной темнотой и затем оставляет нас жить, обогащенных опытом смерти. Там же, на войне, этот опыт дается каждому наяву, и так же, как трагический театр, но только в тысячу раз сильней обогащает человека» (с. 80–81).
Этому сопоставлению нельзя отказать в остроумии. Продолжая его дальше, автор точно так же не без остроумия проводит параллель между трагическим актером на сцене и воином на полях сражений. И тот и другой переживают вторую жизнь среди обычного существования, жизнь фантастическую, вспыхивающую лишь на короткое время, но безмерно выпуклую и яркую. Затем, обогащенные опытом, они возвращаются в обыкновенную жизнь, которую воспринимают с жадностью, радуясь тому, мимо чего прежде прошли бы с презрительной усмешкой. «Опыт же их прежде всего отрицает смерть как последнюю и самую страшную угрозу. Смерть (о ней помнят и часто поминают) есть лишь неудачная случайность, и на ней никто ничего не строит, никаких своих действий ни здесь, ни там; об убитых товарищах говорят так же просто, как о проигравшихся в карты» (с. 82).
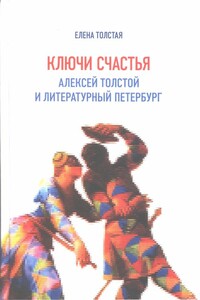
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

Эмма Смит, профессор Оксфордского университета, представляет Шекспира как провокационного и по-прежнему современного драматурга и объясняет, что делает его произведения актуальными по сей день. Каждая глава в книге посвящена отдельной пьесе и рассматривает ее в особом ключе. Самая почитаемая фигура английской классики предстает в новом, удивительно вдохновляющем свете. На русском языке публикуется впервые.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.