Ignoto Deo - [4]
Но, по словам В.М. Петрова, "главным мотивом, вызывающим чувство некоторой неудовлетворенности от модели К. Мартиндейла, является почти полный ее "герметизм" – оторванность процессов художественного творчества (каковые составляют "сердце" модели) от всех остальных протекающих в обществе процессов… Кроме того, модель К. Мартиндейла несколько "герметична" и в собственно-методологическом плане: она опирается исключительно на психологические основания, тогда как в современных условиях хотелось бы иметь модель, основанную на более широком фундаменте, связанную своими корнями по возможности со всей системой современного естественнонаучного и гуманитарного знания"[11].
В отечественной науке одна из первых моделей такого рода была предложена С.Ю. Масловым, который на основе введенного им "индекса асимметрии" проанализировал смену аналитических и синтетических процессов в социально-политическом "климате" российского общества и в стиле русской архитектуры XVIII–XX вв[12]. "Аналитические" процессы характеризуются рациональностью, логичностью, "синтетические" - эмоциональностью, интуитивизмом. В развивающемся обществе доминирование только аналитических или только синтетических процессов не может продолжаться бесконечно долго, поскольку каждый из названных типов обладает ограниченным информационным потенциалом. Именно поэтому практически всем социокультурным процессам присуща цикличность (при этом длительность таких циклов может измеряться годами, десятками лет и даже веками).
Особого внимания заслуживают многочисленные работы В.М. Петрова и Г.А. Голицына[13], в которых не только исследуются те или иные механизмы культуры (в частности, вышеупомянутое чередование "аналитических" и "синтетических" процессов), но также предлагаются направления интеграции естественнонаучного и гуманитарного знания.
Специфической разновидностью циклической парадигмы является бинарная, или инверсионная парадигма[14], пионерами которой выступили Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский[15]. По словам Лотмана, культура живет между непрерывностью, предсказуемостью и непредсказуемостью, взрывом: "Динамические процессы в культуре строятся как своеобразные колебания маятника между состоянием взрыва и состоянием организации, реализующей себя в постепенных процессах…"[16] Суть инверсионной парадигмы Н.А. Хренов резюмирует в следующих словах: "В конечном счете все общества развиваются по принципу инверсии, т.е. резкого скачка и смены ценностных систем. В своем развитии каждое общество придерживается двух полюсов, однако не каждое общество функционирует по принципу их резкой смены. В некоторых обществах акцент ставится на тех ценностях, что успевают возникнуть между двумя полюсами. Это обстоятельство противостоит разрушительному эффекту. Возникшие между двумя полюсами срединные или медиационные ценности исключают резкое столкновение между полюсами. По сути дела, в случае медиации в обществе формируются ценности, не сводимые ни к одному из полюсов. Они обращены к созиданию принципиально новых ценностей, а следовательно, к развитию, т.е. к формированию качественных преобразований всех существующих ценностей, но преобразований не разрушительных, а постепенных"[17]. В рамках этой парадигмы А.С. Ахиезер рассмотрел исторический путь российской культуры как динамики бинарных оппозиций и пришел к неутешительному выводу о характерном для России отсутствии медиационных ценностей и, как следствие, наличии раскола культуры[18].
В настоящее время наблюдается устойчивый интерес к циклическим концепциям исторического времени, что далеко не случайно. Н.А. Хренов объясняет этот факт следующим образом: "Нельзя переоценить и абсолютизировать циклическую парадигму, противопоставляя ее эволюционистской парадигме. Но очевидно, что сам факт интереса к ней и готовности превратить ее в исчерпывающую методологию свидетельствует о том, что человечество вступило в новый этап своей истории, и со всей определенностью этот этап можно назвать переходным. Иначе говоря, сам факт извлечения из небытия идей, которые были известны и раньше, но в более благополучные эпохи забывались, является сигналом того, что начинается переходный период, который и делает столь необходимой эту парадигму"[19]. Далее Н.А. Хренов, обращаясь к концепции М. Фуко, представляет циклическую парадигму латентным дискурсом, а эволюционистскую - манифестируемым, или явным дискурсом, и констатирует, что в переходные эпохи идея линейного времени отходит на задний план, а циклическая парадигма переходит из латентного в явное состояние.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.
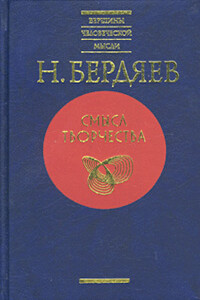
«… Постановка „Бесов“ в Художественном театре вновь обращает нас к одному из самых загадочных образов не только Достоевского, но и всей мировой литературы. Трагедия Ставрогина – трагедия человека и его творчества, трагедия человека, оторвавшегося от органических корней, аристократа, оторвавшегося от демократической матери-земли и дерзнувшего идти своими путями. Трагедия Ставрогина ставит проблему о человеке, отделившемся от природной жизни, жизни в роде и родовых традициях, и возжелавшем творческого почина.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.