Ignoto Deo - [3]
Проблема социокультурного развития (и переходной эпохи, в частности) плодотворно исследуется в рамках нескольких основных моделей и парадигм, например: циклической, инверсионной, эволюционной и синергетической[3]. И хотя границы между ними иногда весьма условны, осмысление любых социокультурных фактов требует осознанного выбора исследовательской парадигмы.
Парадигма цикличности - одна из наиболее древних в истории не только науки, но и человеческой мысли вообще (идея "вечного возвращения" наблюдается уже в архаических мифах). "…С Платона и Аристотеля, Полибия и Сына Цяна, аль Бируни и ибн Халдуна, Дж. Вико и Ш. Фурье, У. Джевонса и Т. Мальтуса, К. Маркса и Ф. Энгельса они вошли в состав многих теорий эволюции природы и общества, не образуя, однако, самостоятельной научной школы. Первоначально преобладало представление о цикле как о замкнутом кругообороте одних и тех же повторяющихся процессов или явлений; однако постепенно утверждается взгляд на цикл как на спираль развития"[4]. В течение двух последних столетий идея цикличного развития получила разностороннее освещение; здесь можно назвать, прежде всего, концепции Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби и П. Сорокина.
Н.Я. Данилевский в своем главном труде "Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому" (1869) заложил основы исследования динамики культурно-исторических типов (локальных цивилизаций) и сформулировал идею цикла развития каждого культурно-исторического типа, который проходит через определенные стадии - формирования, расцвета и дряхления. Полемизируя с западническим отождествлением европейской цивилизации с общечеловеческой, Данилевский подчеркивал различие и самобытность культурно-исторических типов. В частности, в своей работе он выделил четыре основы культурно-исторического типа: религиозную, культурную, политическую и общественно-экономическую, и приходит к делению этих типов на несколько групп[5].
Многие идеи Данилевского были в значительной мере воспроизведены в знаменитой книге О. Шпенглера "Закат Европы" (1918), основная идея которой - полицикличность исторического процесса. Шпенглер обнаружил 50-летние и трехвековые периоды в культурной жизни общества и обозначил идеальную продолжительность жизни в одно тысячелетие для каждой культуры[6]. При этом кризис и гибель культуры рассматривается как ее судьба, неизбежное и закономерное явление, а сами культуры представлены как замкнутые системы с жесткой внутренней организацией. Наконец, А. Тойнби сформулировал теорию круговорота локальных цивилизаций (культур), каждая из которых проходит в своем развитии стадии зарождения, роста, надлома, разложения, гибели и смены[7].
Полемизируя со Шпенглером, Питирим Сорокин справедливо указал на то, что "полное разрушение нашей культуры и общества, провозглашенное пессимистами, невозможно также и по той причине, что общая сумма социальных и культурных феноменов западного общества и культуры никогда не были интегрированы в одну унифицированную систему. Очевидно, что никогда не было соединено, не может быть и разъединено"[8]. Сам же Сорокин за основу социокультурной динамики принял изменения ценностной доминанты в культуре. Проанализировав огромное количество источников, он представил историю человечества как последовательную смену – "циклическую флуктуацию" – неких социокультурных суперсистем, основанных на периодически меняющихся ценностях и нормах, и выделил следующие типы культуры:
а) чувственный (sensate) тип, в котором преобладает эмпирически-чувственное, гедонистическое восприятие действительности;
б) идеациональный (ideational) тип, в котором преобладают абсолютные, духовные, религиозные ценности;
в) идеалистический (idealistic) – промежуточный тип, в котором определенным образом сочетаются чувственный и идеациональный типы.
Своеобразие этих типов культуры наиболее ярко воплощается в искусстве. П. Сорокин относил к периодам расцвета "чувственной" культуры греко-римскую цивилизацию III–IV вв. н.э., т.е. периода ее разложения и упадка, и западную культуру последних пяти веков, с эпохи Возрождения до нашего времени. К идеациональному типу культуры он относил раннесредневековую культуру христианского Запада (с VI по XIII век), а также древнерусскую культуру, к идеалистическому (интегральному) – культуру эпохи Возрождения. П.А. Сорокиным был собран огромный статистический материал, позволивший не только подтвердить его теоретическую концепцию, но и количественно оценить значимость того или иного типа искусства начиная с раннего средневековья и до середины прошлого века.
Устойчивый интерес к цикличным закономерностям присутствует не только у Сорокина, но и у многих отечественных ученых, достаточно упомянуть такие имена, как А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, Н.Д. Кондратьев, А.А. Богданов. Поэтому Ю.В. Яковец говорит о "школе русского циклизма" как об одном из самых значительных течений современной науки[9].
Несомненное влияние оказала школа русского циклизма на американского ученого К. Мартиндейла – виднейшего представителя современной эмпирической эстетики

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.
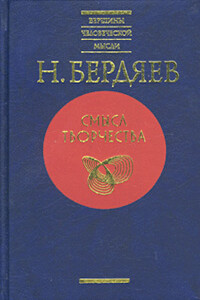
«… Постановка „Бесов“ в Художественном театре вновь обращает нас к одному из самых загадочных образов не только Достоевского, но и всей мировой литературы. Трагедия Ставрогина – трагедия человека и его творчества, трагедия человека, оторвавшегося от органических корней, аристократа, оторвавшегося от демократической матери-земли и дерзнувшего идти своими путями. Трагедия Ставрогина ставит проблему о человеке, отделившемся от природной жизни, жизни в роде и родовых традициях, и возжелавшем творческого почина.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.