Иду на вы! - [11]
В конце апреля реки и озера вскрылись ото льда, и началось великое половодье, которое в этих местах бывает год от году, разве что иногда воды прибудет меньше или, наоборот, больше прочих годов, так об этом знают все от мала до велика по высоте выпавшего за зиму снега. В сию зиму Дажьбог особенно расстарался: все было занесено снегом более чем по пояс, а в иных местах деревни замело по самые крыши.
Половодья, если не нагонит дождей с моря Варяжского, длятся, как правило, недели две-три. Затем вода начинает быстро спадать, обнажая мели и перекаты. По такой воде только на плоскодонных ошивах и пройти, а ладьи придется тащить волоком. Да и путь не близкий. Поэтому Святослав спешил, подгоняя плотников, посулив им хорошую плату, и сам то и дело брался за топор или продольную пилу, становясь на козлы.
Работали день и ночь. По берегу озера горели костры, вжикали пилы, стучали топоры, в ритме работы звучали артельные песни.
Намаявшись за день, Святослав присел у костра на медвежью полсть. Был он невысок ростом, зато широк в плечах и груди, голова обрита, оставлен лишь на темени длинный пук темно-русых волос, свисающий за ухо. Лицо у князя с мягкими чертами, курносое, брови густые, усы длинными тонкими концами свисают ниже подбородка, глаза светло-синие, пронзительные, если на ком остановятся, тот почувствует этот взгляд даже спиной.
Дядька-воспитатель Асмуд, старый воин лет пятидесяти, тоже из варягов, как и сам Святослав, чем-то похожий на своего подопечного, поставил перед ним чашу с мясом, кружку с брусничной водой, ее накрыл горбушкой ситного хлеба.
Едва Святослав закончил трапезу, к нему подсел ученый грек Свиридис, обросший черной в колечках, но с обильной сединой бородой и волосом, в серых глазах которого плясали языки пламени горящего рядом костра. Трудно сказать, сколько Свиридису лет, но он крепко стоит на ногах, неплохо владеет копьем и топором, знает грамоту и понимает наречья многих народов.
Когда-то сей Свиридис разуверился в Христе. И разуверился по той причине, что, как он считал, имей Иисус Христос сущность всемогущего бога на самом деле, не позволил бы своей пастве так своевольничать с законами, будто бы ниспосланными им же для сбережения и приумножения своего стада. А какое сбережение и приумножение, если человек уничтожает себе подобного, будто зверь лютый, никаких законов не знающий? А еще эта вакханалия с иконами: одни кричат, что иконы, сотворенные руками грешного человека по его произволу, святы; другие – им насупротив: нет, мол, никакой святости в этих размалеванных досках и в ликах, на них изображенных, а люди по глупости своей и суеверию возносят молитвы пред пустым местом или, пуще того, пред какими-нибудь тряпками и костями, называемыми святыми мощами, невесть откуда взятыми и невесть чем отличающимися от других тряпок и костей. Ей-богу, хуже, чем у язычников. Так лучше быть язычником и верить в богов, каждый из которых отвечает перед верховным богом за свою епархию, как в былые времена перед Зевсом в Элладе, или Сварогу и Перуну, как нынче на Руси. Как ни как, а множество поколений предков как Свиридиса в самой Греции, так и в других местах, почитали многобожие, и мир от этого не разваливался, был даже значительно удобнее и приятнее для существования человека, хотя и тогда брат шел на брата, а сын на отца, но это можно было объяснить коварством одних богов и попустительством других, распрями между ними, завистью и прочими пороками, которыми они наградили и смертных. А христиане заменили многобожие множеством божьих угодников, будто бы святых, которым и молятся, ища заступничества перед богом истинным. А так ли уж святы эти угодники, как о них идет молва? Все это выдумки церковников, погрязших в грехах, для оправдания своего безбедного существования. Если они при этом не боятся кары, ожидающей их на том свете, то не следует ли из этого, что нет никакого бога и нет никаких его законов, а есть выдумки самих людей по своему произволу?
За эти крамольные мысли, которые Свиридис высказывал вслух перед своей же братией, его выгнали из монастыря, прокляли и отлучили от церкви, как будто только церковь и может приобщить человека к богу, а бога склонить к его нуждам. Посмотришь – у каждого народа свой бог или боги, и если есть какой-нибудь наиглавнейший, то ему все равно, кто и кому бьет поклоны. И пошел Свиридис бродить по свету в поисках правды или хотя бы ответа на мучившие его сомнения и вопросы. Но нигде до сих пор не встречал другого такого же искателя правды и справедливости, который бы внятно объяснил ему, кто и зачем устроил этот мир и по каким законам он живет. А по всему по этому образовалась в его кудлатой голове сплошная каша из рассуждений всяких богословов-книжников, приверженцев разных религий, настолько пересоленная и подгоревшая на огне ожесточенных споров, что не годится для нормального пропитания ума.
Сей Свиридис прилепился к Святославу давно, почитай, лет десять тому назад, и никто не знает, откуда он взялся, однако сумел привлечь к себе внимание князя мудрыми, хотя и злыми речами, знанием, что делается на том или ином конце света. От него Святослав перенял грамоту, посредством которой можно передавать свои мысли и желания на большие расстояния, и другой человек, разумеющий то же самое, эти мысли и желания узнает и станет действовать сообща. Посредством грамоток, начертанных на тонком пергаменте или даже на бересте, Святослав сообщался со своей матерью, княгиней Ольгой, знал, в каких условиях она живет, какие прилагает усилия, пытаясь противостоять владычеству Хазарского Каганата над Русью. Он был уже опытным воином и вполне созрел для того, чтобы вступить с ним в единоборство. Тем более что Русь за минувшие годы окрепла, особенно на севере; у нее появились союзники, а Каганат, наоборот, каждый год истощает себя в противоборстве с непокорными племенами и народами, и если подгадать подходящее время, можно ударить в самое его сердце, а затем разорвать труп на куски и, чтобы не смердел, бросить хищным зверям и птицам на растерзание. Что касается мыслей Свиридиса о различных богах, в том числе и о тех, которым поклоняется сам Святослав, то князь охотно слушает крамольные речи грека, но советует помалкивать при других, ибо это может кончиться не только отлучением от церкви, но и головы от тела. Свиридис согласно кивает своей кудлатой головой: он уже ни раз на собственной шкуре познал людскую глупость и неспособность слушать других. Что касается Святослава, то Свиридису близка и понятна любознательность русского князя и его почти философский взгляд на окружающий мир, хотя о философии он не имеет ни малейшего понятия.

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.
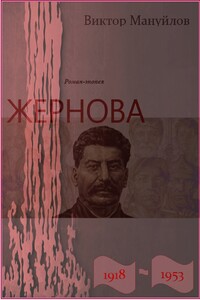
«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.
