И нет этому конца - [28]
Хотя бы тот же Ляшенко-старший. После сегодняшней беготни состояние его явно ухудшилось. Он уже плелся в хвосте, с трудом переставляя ноги.
Я обождал его. Осторожно спросил:
— Ну как фурункул?
— Хоч лягай та помирай, — тяжело вздохнул он.
— Ничего, Ляшенко, пройдет!
— Товарищ лейтенант, а може, там не чиряк, а пуля? — робко предположил он.
— Пуля? — я не удержался и захохотал.
— А що, не може буты? Колы я пид кущем сыдив, вона и куснула?
— Пуля бы не так куснула!
— А мабуть вона при кинци лету була?
— Вот разве только на излете, — весело согласился я.
И тут я увидел глаза Теофана. Они смеялись. Неужели его самого забавляла вся эта история с фурункулом, вскочившем у него на заду? Тогда он — ей-богу! — достоин всяческого уважения, толстячок в брезентовом плаще, бывший заготовитель сельхозпродуктов.
— Сперанскому показывали?
— Показував.
— Что он говорит?
— Що це тилькы начало!
И фыркнул, мать честная!
Увидев, что я разговариваю с его братом, остановился подождать нас младший Ляшенко — Савва.
— Что, тоже пуля? — спросил я, показывая на забинтованную руку.
— Вы маете в виду ту пулю, що вин придумав?
И мы все втроем засмеялись. Сейчас я готов поклясться, что у них и в мыслях не было идти в госпиталь.
— Я сам посмотрю ваши раны, — пообещал я.
— Добре дило, — отозвался старший Ляшенко.
В этот момент мы обнаружили, что сбились с дороги, спустились в совсем другой овраг. Сперанский упрекнул меня:
— Вы пошли, а мы все за вами.
— Мало ли куда меня занесет, — попробовал я отшутиться.
— Ладно, учтем на будущее, — неожиданно поддержал мою шутку командир отделения.
Чтобы не лазить вверх-вниз по горкам в поисках пропавшей дороги, решили спуститься этим оврагом до Днепра, а там берегом добраться до медпункта.
Шли тропкой, извивавшейся по склону.
Я вспомнил о Коваленкове, который после того, как сунул мне записку, держался от меня на расстоянии.
Интересно, что в ней? Правда, он попросил посмотреть ее потом. Но «потом» — это уже сейчас. Кроме того, меня начало разбирать любопытство…
Я пропустил отделение вперед и достал из кармана смятый листок. Развернул. Он весь был исписан малограмотными каракулями. С огромным трудом разобрал первую строчку: «Як совецки патриот сообчаю секретно про чужи илементив…» Что это? Ах вот что! Коваленков осведомлял меня, а в моем лице, по-видимому, и командование, о прошлом своих приятелей… «Чепаль — тесть палецай… (Все тот же злополучный тесть — тесть номер один!) Задонски — батька деакон, сослан Сибир… (Ну и что? Сын за отца не ответчик!) Орел — куркуль… (Чушь! Был бы он кулаком, так бы ему и доверили воспитание детей!) Панько — дизиртир з партизанскава атряду…»
Это был донос — настоящий донос на своих товарищей! Я с силой скомкал и швырнул листок на землю. Но через несколько шагов спохватился: а вдруг кто-нибудь найдет и прочтет? Быстро вернулся. Поднял, спрятал в карман…
Не знаю, видел ли Коваленков, как я расправился с его сочинением.
Я догнал его. В крохотных зрачках санитара спаялись ожидание и настороженность.
Я участливо спросил:
— Как ваш живот?
— Мий жывит? — удивился он.
— Ну да, ваш!
— Дуже погано, товарищ лейтенант! И болыть, и проносыть кожни пивгодынкы!
— Придется в госпиталь лечь! — сказал я.
— Та хиба я проты? — жалобно произнес он. — Колы треба, то треба…
У меня отлегло от сердца.
Скатертью дорога, приятель! Слава дизентерийной палочке, выбравшей из многих доносчика! А мы уж без тебя как-нибудь перебьемся.
Первым на мине подорвался солдат, который взбирался по склону со стороны реки. На помощь к нему бросился Зубок, находившийся ближе всех, и новый взрыв взметнулся вместе с душераздирающим криком. Маленький санитар сделал еще несколько шагов и упал ничком.
Мы мгновенно скатились с минного поля на тропинку, проходившую в середине оврага.
Время словно остановилось. Мы с ужасом смотрели, как Зубок пытался встать, но никак не мог справиться со своим странно укороченным телом. Потом он повалился на бок, перевернулся на спину и беспорядочно задвигал руками и ногами. А рядом с ним неподвижно лежал солдат, первым наскочивший на мину. Он был или убит, или потерял сознание.
От них нас отделяли десять — пятнадцать метров, усеянных невидимыми противопехотными минами.
Мы заметались по тропинке, не зная, что делать. Понимали, что каждая упущенная секунда все меньше оставляла надежд на спасение раненых.
Вдруг Сперанский выдернул из валявшейся на земле винтовки шомпол.
— Я пошел!
— Не надо! — закричал я.
— Я видел, — спокойно сказал он, — один солдат так прошел все минное поле…
И, поколов шомполом в нескольких местах землю, он сделал первый шаг… затем второй… третий…
Когда самодельный миноискатель в руках Сперанского натыкался на что-то твердое, я весь замирал…
Я сознавал, что также должен решиться на это. Каким бы опытным санинструктором ни был Сперанский, его знания медицины уместятся на одной или двух страничках школьной тетради. Он даже укола сделать не сможет, чтобы поддержать в раненом слабый огонек жизни.
Еще два-три шага, и я позабуду, куда он ставил ногу. Неизмеримо возрастет риск.
Или сейчас, или его невидимые следы сотрет время.
Моя правая нога нащупала знакомую площадку между бугорками, а левая, задев чертополох, перенесла тело на целых два шага вверх по склону. Дальше меня взяло сомнение: тот ли это камешек, на который наступил тяжелый сапог санинструктора? По отношению к одуванчику тот был чуточку левее. Или это обман зрения? Но другого тут нет. Значит, он… Наступил. Полный порядок… А выше основательно примята трава. Опасаться нечего.
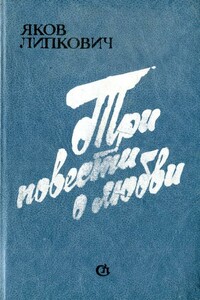
Все три повести, вошедшие в книгу, действительно о любви, мучительной, страстной, незащищенной. Но и не только о ней. Как это вообще свойственно прозе Якова Липковича, его новые произведения широки и емки по времени охвата событий, многоплановы и сюжетно заострены. События повестей разворачиваются и на фоне последних лет войны, и в послевоенное время, и в наши дни. Писательскую манеру Я. Липковича отличает подлинность и достоверность как в деталях, так и в воссоздании обстановки времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Советские специалисты приехали в Бирму для того, чтобы научить местных жителей работать на современной технике. Один из приезжих — Владимир — обучает двух учеников (Аунга Тина и Маунга Джо) трудиться на экскаваторе. Рассказ опубликован в журнале «Вокруг света», № 4 за 1961 год.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

В сборник вошли лучшие произведения Б. Лавренева — рассказы и публицистика. Острый сюжет, самобытные героические характеры, рожденные революционной эпохой, предельная искренность и чистота отличают творчество замечательного советского писателя. Книга снабжена предисловием известного критика Е. Д. Суркова.

В книгу лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Ю. Шесталова пошли широко известные повести «Когда качало меня солнце», «Сначала была сказка», «Тайна Сорни-най».Художнический почерк писателя своеобразен: проза то переходит в стихи, то переливается в сказку, легенду; древнее сказание соседствует с публицистически страстным монологом. С присущим ему лиризмом, философским восприятием мира рассказывает автор о своем древнем народе, его духовной красоте. В произведениях Ю. Шесталова народность чувствований и взглядов удачно сочетается с самой горячей современностью.

«Старый Кенжеке держался как глава большого рода, созвавший на пир сотни людей. И не дымный зал гостиницы «Москва» был перед ним, а просторная долина, заполненная всадниками на быстрых скакунах, девушками в длинных, до пят, розовых платьях, женщинами в белоснежных головных уборах…».

