Христос остановился в Эболи - [64]
Не приходили ни письма, ни газеты, потому что снег занес все дороги; остров, окруженный обрывами, потерял всякую связь с землей. Смена дней превратилась просто в смену облаков и солнца; новый год лежал неподвижно, как уснувший древесный ствол. В однообразии часов не было места ни для воспоминаний, ни для надежд: прошлое и будущее стали похожими на два мертвых пруда. Казалось, все впереди, до конца дней, стремилось стать и для меня туманным «crai» крестьянина, полным бессмысленного терпения, вне истории и вне времени. Как все же иногда язык со своими внутренними противоречиями вводит в заблуждение! В этой равнине, не знающей времени, наречие обладает более богатыми определениями времен, чем любой язык; кроме этого неподвижного вечного «crai», у каждого дня будущего есть свое собственное имя: «crai» — это завтра и всегда; послезавтра это — «prescrai», а следующий за ним день «pescrille», потом идет «pescruflo» и потом «maruflo» и «maruflone», а седьмой день — это «maruflicchio». Но в этой точности определений больше всего иронии. Эти слова употребляются не столько для того, чтобы указать тот или иной день, но чаще всего вместе, как простой перечень, и само звучание их смешно: они как бы посылают упрек тому, кто бесплодно хочет различить что-то в вечном тумане «crai».
И я тоже перестал ждать чего бы то ни было от будущих «marufli», «marufloni» или «maruflicchi». Ничто не нарушало одиночества моих вечеров в продымленной кухне, разве только иногда посещения патруля карабинеров, приходивших для формы проверить, здесь ли я, и выпить стакан вина. Хозяин дома предупредил, что меня часто будет беспокоить шум давильного камня, потому что пресс находится прямо под моими комнатами; туда проникали из огорода, через маленькую дверь рядом с лесенкой, ведущей в дом. Он сказал мне, что камень будет работать и ночью. Когда осел с завязанными глазами тащил по кругу жернов, весь дом дрожал и из-под пола доносился непрерывный грохот. Но урожай олив в этом году был такой скудный, что жернов вертелся всего два или три дня, а потом стоял тихо и спокойно, как прежде, и тишина моих вечеров больше не нарушалась.
Только один раз, после ужина, пришли ко мне бригадир и адвокат П., чтобы поиграть в карты. Они сказали, что так как я живу один, то они решили, что я буду рад их посещению; они надеялись приходить часто и проводить приятные часы. Я трепетал при мысли, что это может стать ежедневной привычкой, и я должен буду проводить часы за рамино — нелепой, скучной карточной игрой; в то время я предпочитал быть один и читать или работать.
То rede and dryve the night away.
For me thoughte it better play.
Then plyen either at shesse or tables[58].
Все же, ценя их добрые намерения, я попытался сделать хорошую мину при плохой игре, и мы провели вечер за бесконечным рамино. Они больше не приходили. Дон Луиджино сразу узнал об этом визите от кого то из своих приспешников. Мне он ничего не сказал, но бригадиру устроил на площади ужасную сцену, обвиняя его в кумовстве с ссыльными и угрожая донести на него и потребовать его перевода. Так никто и не осмеливался приходить ко мне за исключением больных и крестьян (они-то могли посещать меня, потому что их не считали за людей) да доктора Милилло, который любил поступать независимо и, кроме того, пользовался правами старого дяди подесты и не опасался его.
Так я мог свободно располагать собой и своим временем. Если у меня не было посетителей из синьоров, зато меня посещали дети. Их было множество, самого разного возраста, они стучались ко мне в дверь во всякое время. Сначала их притягивал Барон, существо непосредственное и удивительное. Потом их поразила моя живопись, и они не могли надивиться тому, как на полотне, точно по волшебству, появлялись изображения домов, холмы, лица крестьян. Они стали моими друзьями, свободно входили в дом, позировали мне, гордились, видя себя нарисованными. Узнав, когда я пойду рисовать в поле, они целой гурьбой приходили за мной. Их было обычно человек двадцать, и каждый считал величайшей для себя честью нести ящик с красками, мольберт, холст; и из-за этой чести ссорились и дрались, пока я не вмешивался и, как не допускающее возражений божество, выбирал и судил. Выбранный шел с ящиком — самым тяжелым, а потому наиболее ценным и желанным предметом, гордый и счастливый, как паладин, выступая торжественным шагом. Один из них, Джованни Фанелли, мальчик восьми-десяти лет, бледный, с большими черными глазами, тонкой длинной шеей, с белой, точно женской кожей, особенно восхищался живописью. Все дети просили у меня в подарок старые пустые тюбики из-под красок, старые вылезшие кисточки и пользовались ими для своих игр. Джованни тоже получал свою долю, но употреблял все это совсем для другой цели; не говоря мне ни слова, потихоньку он начал рисовать. Джованни очень внимательно следил за всем, что я делаю: смотрел, как я загрунтовываю холст, натягиваю на раму; так как я проделывал все эти операции, они казались ему столь же существенными для искусства, как и сама живопись. Он нашел деревянные палки, сумел скрепить их и на эти неправильные рамы натянул куски старой, бог знает где найденной рубахи, смазал какой-то тюрей, которая должна была заменить грунт. Проделав все это, он счел, что выполнил главное. И вот, вооруженный вылезшими кистями, красками, оставшимися на дне тюбиков и на палитре, он начал рисовать на своих холстах, пытаясь повторять весь ход моей работы и все мои движения. Он был робкий мальчик, легко краснел и никогда бы не осмелился, хотя ему очень этого хотелось, показать мне свои труды. Предупрежденный другими, я их увидел. Это были не обычные детские рисунки и не копии. Это было нечто бесформенное, пятна красок, не лишенные очарования. Не знаю, мог ли Джованни Фанелли стать художником и стал ли им, но поверьте, я ни в ком никогда не видел такой веры в откровение, которое должно прийти само по себе, от самой работы; такой абсолютной уверенности, что нужно только повторить технику, как повторяют непогрешимую магическую формулу или как вспахивают и засеивают землю, а она уже сама приносит плоды.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
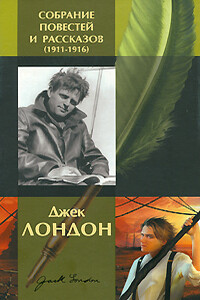
Русские погранцы арестовали за браконьерство в дальневосточных водах американскую шхуну с тюленьими шкурами в трюме. Команда дрожит в страхе перед Сибирью и не находит пути к спасенью…
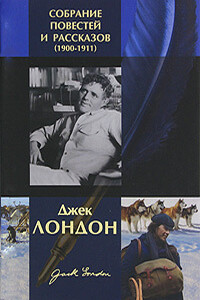
Неопытная провинциалочка жаждет работать в газете крупного города. Как же ей доказать свое право на звание журналистки?
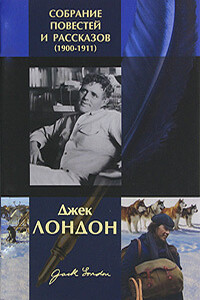
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
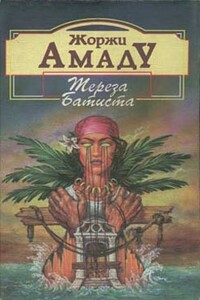
Латиноамериканская проза – ярчайший камень в ожерелье художественной литературы XX века. Имена Маркеса, Кортасара, Борхеса и других авторов возвышаются над материком прозы. Рядом с ними высится могучий пик – Жоржи Амаду. Имя этого бразильского писателя – своего рода символ литературы Латинской Америки. Магическая, завораживающая проза Амаду давно и хорошо знакома в нашей стране. Но роман «Тереза Батиста, Сладкий Мёд и Отвага» впервые печатается в полном объеме.
