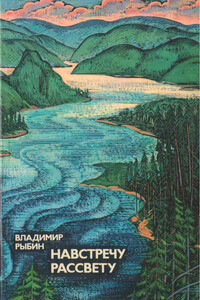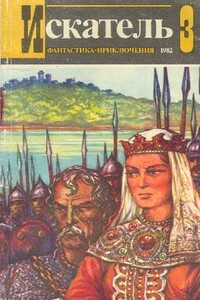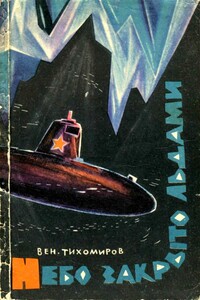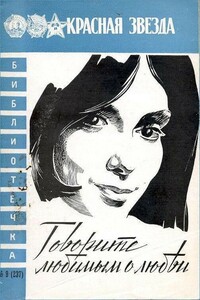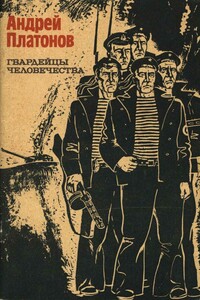Александр еще раз посмотрел вслед быстро удаляющимся машинам, по-русски, сквозь зубы, выматерился.
— Пацифисты, что ли?
— У нас многие боятся ваших ракет, — неопределенно ответил Фред.
— Что они — не понимают?!
— Вот бы и сказал там, чтобы поняли. — Фред махнул рукой назад и вверх.
Остудил. Эйфории как не бывало. И сам себе показался Александр отнюдь не героем, а робким мальчишкой. Было с ним такое когда-то в детстве. Стащил со стола конфетку и сделал вид, будто это не он. Сам себе казался ловким, пройдошистым. Ничего не помнил от того детства, а случай с конфетой все жил в нем. И вот теперь впервые подумалось ему, что память время от времени подсовывает этот эпизод не для того, чтобы он лишний раз погордился ловкостью юного сорванца, а чтобы устыдился и понял: ценно не то, что ухвачено у жизни исподтишка.
Они вышли к тому самому перекрестку, от которого три часа назад повернули направо. Нашел Александр и след на асфальте — от креста, который тащила Саския. Огляделся, ни креста, ни Саскии не увидел, но даже не пожалел об этом. Смута была в его душе, горестное осознание несодеянного. Едва поспевая за Фредом, быстро шагавшим под гору, он все думал о том, что зря напросился к этому Мутлангену. Что доказал Крюгерам, пастору, Саскии, Фреду? Что умеет бегать зайцем в толпе? Неучастие, оно и осталось неучастием… Впрочем, если бы и поехал с Крюгерами на поезде демонстрантов, если бы даже речи произносил у ворот, все это было бы с его стороны не более чем паясничанием. Завтра он уедет и успокоится в своем неведении. А они останутся и будут мучиться в ожидании апокалипсиса, распинаемые разноголосицей газет, слухами о «красной опасности» и о реваншистских выходках «вечновчерашних», вздрагивать от телефонных звонков, жаждать покоя и осознавать, что нужно, совершенно необходимо что-то предпринимать, иначе можно однажды оказаться под развалинами собственного дома или проснуться от грохота сапог очередных штурмовиков под окнами…
На стоянке, все так же забитой машинами, было безлюдно: вернулись они от Мутлангена одними из первых. Не сговариваясь, прошли в пивной бар, совершенно пустой, без единого посетителя, сели за столик. Из двери за стойкой выглянул хозяин, Фред показал ему два пальца, и он исчез. Через минуту появился снова, положил на стол два фирменных картонных кружочка и поставил на них высокие стаканы с пенными шапками пива. На стене, только рукой достать, висел беззвучно работающий телевизор. Передавали конные состязания. Хозяин потянулся к телевизору, чтобы включить звук, оглянулся на Фреда. Тот покачал головой, и хозяин опустил руку, ушел.
Пиво было холодным, почти ледяным. Они пили его маленькими глотками и молча смотрели на безмолвные медлительные танцы красивых коней на экране. Всего в двух-трех километрах отсюда десятки тысяч людей исходили в криках, а здесь были покой и умиротворенность, и это спокойствие хозяина, этот телевизионный нейтралитет казались странными, неестественными. И традиционный плакатик, висевший под телевизором — «Richtige Rechnung macht gute Freundschaft»[18], — казался нарочитым и неестественным. Александр был уверен: многие из тех, что окружали сейчас базу «Мутланген», имели иное, более широкое представление о дружбе, нежели только правильный денежный расчет.
— Скажи, ты — коммунист? — неожиданно спросил Фред.
— Беспартийный большевик, — усмехнулся Александр.
— Что это?
Не очень уверенный, что говорит правильно, он начал рассказывать о том, что Коммунистическая партия Советского Союза прежде называлась партией большевиков и те, кто не состояли в ней, но были, как говорится, обеими руками за, простецки назывались беспартийными большевиками, что термин этот, хоть и редко, и поныне используется в разговорной речи.
— А почему ты не коммунист? — прервал Фред его путаную речь.
— Так уж вышло. — Он внимательно посмотрел на Фреда. — А ты коммунист?
— Нет.
— Почему?
— У нас быть коммунистом не просто, — медленно, словно обдумывая каждое слово, ответил Фред. — О запрете на профессии слышал? Будь я коммунистом, меня бы уволили из школы. — Он вдруг наклонился вперед, почти лег на стол и, косясь то на хозяина, замеревшего за стойкой, то на телевизор, на экране которого все танцевали лошади, заговорил горячо и сбивчиво: — У нас многие душой с Германской коммунистической партией, многие принимают ее прямоту и бескомпромиссность, особенно в вопросах борьбы за мир. В демонстрациях протеста, вроде сегодняшней, коммунисты всегда вместе с «зелеными», социал-демократами, со всеми, кто против войны. Они не прячутся, нет! — раздраженно произнес он, словно Александр говорил обратное. — Но какой смысл выпячивать именно коммунистические лозунги, когда налицо целый антивоенный фронт организаций и партий? — Он помолчал, улыбнулся смущенно. — Что-то не то сказал, да? «Антивоенный фронт». Если уж фронт, то военный, а антивоенный — антифронт, что ли?
— По-моему, правильно сказал. Против сил войны и насилия нужно насилие же. Одними молитвами тут не обойтись.
— Молитвами?
— Ну, одними словесными протестами да призывами.
— Не знаю, не знаю…