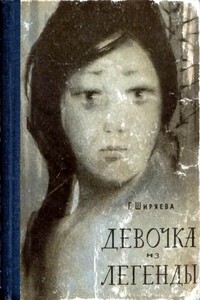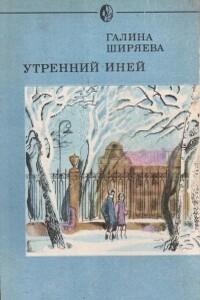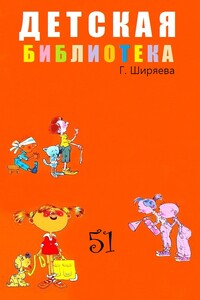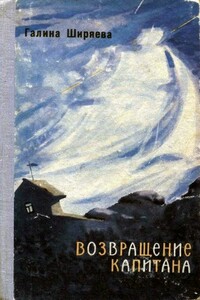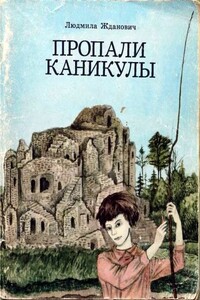* * *
Билеты на саратовский поезд, уходящий через пять часов, в единственной еще работающей кассе были только в мягкий и уже кончались. Юлька ударилась в панику и отчаянно полезла к кассе. Кто-то снова обругал ее неуклюжий чемодан, но она все равно так упорно лезла, повторяя все тем же дрожащим замаскированным голоском: «Пожалуйста, позвольте, пожалуйста, позвольте», что все почему-то засмеялись и пропустили ее к окошку…
Получив наконец-то билет, она отыскала свободное местечко на скамье в зале ожидания, достала из чемодана блокнот, склеившиеся конверты и нацарапала коротенькое письмецо Дюк. «Юля! Я достала билет в мягкий. Все благополучно. Тот, которого ты ударила и который живет на первом этаже в вашем доме, хочет тебя избить. Вечером по улице не ходи».
Надо было добавить еще что-нибудь. Но что? Юлька долго думала, но так ничего и не смогла придумать. Неужто ей нечего больше сказать Дюк?
Она вспомнила, как они расставались на платформе под одинокой вывеской и как Дюк без сожаления протянула ей крепкую руку с сильными неподатливыми пальцами. А может быть, она простилась с Юлькой так холодно и так небрежно потому, что догадывалась — Юлька не достанет билет на поезд… А Юлька достала! В мягкий!
Она запечатала письмо и опустила его в почтовый ящик возле телеграфного окошка. Конечно, лучше бы послать письмо не на Мельничную, а туда, в дом на холме. Но Юлька не знала адреса на Заозерной.
Отыскав местечко на самой дальней забытой скамейке, она устроилась поудобнее, подняв воротник плаща. Поезд уходил в шесть утра. Ночь на вокзале не была для Юльки в новинку. В позапрошлом году, возвращаясь от няни Мани, они с Любкой потеряли билеты и провели на вокзале в Курске целые сутки. Но тогда Юльке, несмотря ни на что, было весело…
К утру дождь, ливший всю бессонную ночь, прошел. Просохли крыши, тротуар у вокзала, и воздух стал сухим. Однако к тому времени, когда объявили посадку на саратовский поезд, снова начал накрапывать дождь — не разноцветный и не звонкий. Мелкие, почти невидимые капли снова быстро и незаметно покрасили непокрытую часть перрона и крышу вокзала в темный цвет. Вагонное окно в коридоре, к которому подошла Юлька, оставив чемодан в купе, было непрозрачным, рябым от дождя, и Юлька открыла его. Вот и все. Словно и не было никогда ни Дюк, ни дома на холме, ни телефонного разговора с дедом, ни ее так печально закончившейся золотой любви…
— Отправляемся! — весело прокричала проводница, проходя мимо Юльки по коридору. — Провожающие, освободите вагон! Девочка, отойди от окна, простудишься!
— В Саратове-то когда будем? — спросил кто-то, высунувшись из купе.
Родное слово «Саратов» сразу укутало Юльку с головы до ног во что-то мягкое и теплое — как будто она зарылась в нагретый солнцем песок на пляже, что напротив города, у нового моста.
Что бы они там ни говорили, а такого пляжа здесь у них нет и быть не может… Наверно, мать удивится Юлькиному приезду. И Василий Леонтьевич тоже. Но что поделаешь? И ведь все равно они будут ей рады! И ей не придется держать в памяти встречу с Егором Витановичем и с человеком, у которого в сердце осколок…
Поезд тронулся. Капли дождя вместе с ветром ворвались в вагон и хлестнули Юльку по лицу.
— Девочка! Закрой окно!
Город ушел от Юльки как-то стремительно. Наверно, поезд сразу же свернул в сторону от него, и побежали, побежали за окном редкие невысокие одинокие дома. Выше за ними виднелась полоска голубого, уже освободившегося от дождливых облаков неба. День начинался, и это было хорошо — днем всегда светло и празднично, как на параде, когда сверкают ордена и гремят барабаны, а до сумерек еще далеко. И можно петь песни. Не те, не Юлькины, а те, которые поют все, — веселые, в которых нет тревоги и зова военной трубы.
— Холодно у окна-то! — сказала Юльке женщина, соседка по купе, выходя в коридор. — Я смотрю — ты все стоишь и стоишь у окна. Что, грустно было расставаться?
— Да, — ответила Юлька, — грустно.
— От матери уехала?
— Нет, — глотая щемящий комочек в горле, сказала Юлька. — От дедушки.
Слово это, такое ласковое и мягкое, произнесенное ею впервые, не для него, а для чужих людей, вдруг стало каким-то твердым и шершавым, как кора погибшего дерева.
— Ты до Саратова едешь?
— До Саратова.
— Вот и хорошо. У нас в купе все до Саратова. Значит, ночью можно спокойно спать, никто не потревожит.
— А где первая остановка?
— Первая? В Максимове.
— Где?
— В Максимове.
— А к-когда?
— В семь пятнадцать, кажется. Больше часа без остановок гнать будем.
— А что там в Максимове? Город?
— Город не город, а станция. Вокзал. Все как положено.
— И электричка ходит?
— Ходит. Чего же ей не ходить? Все как положено.
— До города ходит?
— До города.
— И автобус?
— И автобус ходит. Ты закрой окно. Холодно.
Юлька закрыла окно, и сейчас же дождь с силой исхлестал его и закрыл от нее мутной пеленой и небо, и горизонт, тронутый солнцем.
— Тебя как зовут?
— Юля.
— Хорошее имя.
Да! Так называют женщин из славного рода Гюрги-Дюрги-Дюков!
— Который час?
— Да скоро половина седьмого уже!
До Максимова, куда обязательно должен вернуться дед, оставалось сорок пять минут. Ровно сорок пять. Долгий школьный урок с невыученной главой из учебника, когда не знаешь, куда деться, и уйти никуда нельзя. И все равно вызовут к доске. И холодок от застывших серебряных лучей живет в ладонях!