Греки и иррациональное - [12]
Грекам не слишком повезло, что идея космического закона, представлявшая некоторый шаг вперед по сравнению с прежним понятием чисто произвольных божественных сил и формировавшая основу новой, гражданской морали, оказалась очень тесно связанной с ранним представлением о семье. Ибо это означало, что весь груз религиозного переживания и религиозного закона был брошен против подлинного отношения к индивиду как к личности, имеющему свои права и обязанности. Такое отношение стимулировало возникновение в Аттике нерелигиозной, мирской законности. Как показал Глотц в своей выдающейся книге La Solidarite de la famille en Grece,[150] освобождение индивида от клановых и семейных оков — одно из важнейших достижений греческого рационализма, оказавшее безусловное влияние на развитие афинской демократии. Но уже и после того как освобождение это приобрело форму закона, религиозное сознание все еще находилось в плену прежнего семейного единства. Даже у Платона, в IV в., пальцем показывают на человека, отягощенного наследственной виной, и говорится, что нужно в виде возвращения долга испытать катарсис, чтобы получить ритуальное облегчение от нее.[151] Да и сам Платон, хотя он и соглашался с изменениями в традиционном законодательстве, в отдельных случаях считался с теорией наследственной религиозной вины.[152] Столетием спустя Бион из Борисфена все еще полагает нужным указать, что наказывая сына за причиненную отцу обиду, бог действовал как врач, который должен дать лекарство ребенку, чтобы исцелить отца; и набожный Плутарх, который цитирует это остроумное замечание, пытается, тем не менее, найти защиту для старой доктрины в обращении к известным в его время фактам наследственности.[153]
Возвращаясь к веку архаики, скажем, что греков ограничивало также и то, что функции, переданные моральному сверхсуществу, оказались преимущественно, если не единственно, карающими. Мы много слышим о наследственной вине и намного меньше — о наследственной невинности; много о страданиях грешника в преисподней или чистилище и сравнительно немного о будущих наградах за добродетель; акцент всегда ставится на карательных санкциях. Без сомнения, это отражает юридические идеи того времени: ведь уголовное законодательство предшествовало гражданскому, и первичной функцией государства являлась принудительная. Кроме того, божественный закон, как и закон раннего общества, не берет во внимание мотив поступка и не снисходит до человеческих слабостей; он лишен того человеческого качества, которое греки называли επιείκεια или φιλανθρωπία.[154] Одна популярная в ту эпоху пословица, гласящая, что «любая добродетель состоит в справедливости»,[155] богов подразумевает не меньше, чем людей: понятие сочувствия уже редко связывалось и с теми и с другими. Не так было в «Илиаде»: здесь Зевс испытывает жалость к обреченным на смерть Гектору и Сарпедону; он жалеет и Ахилла, оплакивающего своего погибшего друга Патрокла, и даже ахиллесовых коней, тоскующих по своему вознице.[156] В «Илиаде», 21, он говорит: «Я забочусь о них, хоть они и погибнут». Но в складывающейся системе вселенского Закона Зевс утратил свою человечность. Религия олимпийских богов, принимая моральный оттенок, имела тенденцию стать религией страха, что отражалось и в религиозном словаре. В «Илиаде» нет понятия «страха божьего»; но в «Одиссее» быть θεουδής [богобоязненным] является уже немаловажным достоинством, а менее поэтический его эквивалент, δεισιδαίμων,[157] использовался как похвала и имел широкое хождение во времена Аристотеля.[158] Понятие любви к богу, с другой стороны, отсутствует в древнегреческом лексиконе, филотеос впервые появляется у Аристотеля.[159] И фактически из большинства олимпийцев только Афина пробудила чувство, которое можно обоснованно считать любовью. «Ведь нелепо услышать от кого-то, — говорится в "Большой Этике", — что он "дружит с Зевсом" ».[160]
Это подводит нас к последней важной особенности, которую хотелось бы подчеркнуть, а именно общераспространенному страху осквернения (миасма) и коррелирующему с ним универсальному желанию ритуального очищения (катарсис). Здесь опять различие между гомеровским и архаическим временем, теряя абсолютный характер, становится относительным; ведь неправомерно было бы отрицать, что катарсис, хотя бы и в минимальной форме, практикуется в обоих эпосах.
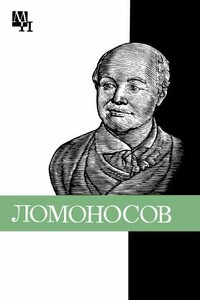
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.
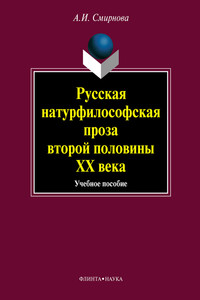
Русская натурфилософская проза представлена в пособии как самостоятельное идейно-эстетическое явление литературного процесса второй половины ХХ века со своими специфическими свойствами, наиболее отчетливо проявившимися в сфере философии природы, мифологии природы и эстетики природы. В основу изучения произведений русской и русскоязычной литературы положен комплексный подход, позволяющий разносторонне раскрыть их художественный смысл.Для студентов, аспирантов и преподавателей филологических факультетов вузов.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.

Книга посвящена жизни и творчеству видного французского философа-просветителя Э. Б. де Кондильяка, представителя ранней, деистической формы французского материализма. Сенсуализм Кондильяка и его борьба против идеалистической метафизики XVII в. оказали непосредственное влияние на развитие французского материализма.Для широкого круга.
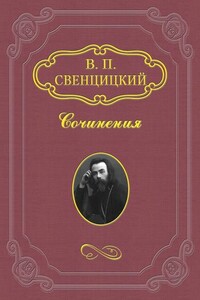
«…У духовных писателей вы можете прочесть похвальные статьи героям, умирающим на поле брани. Но сами по себе «похвалы» ещё не есть доказательства. И сколько бы таких похвал ни писалось – вопрос о христианском отношении к войне по существу остаётся нерешенным. Великий философ русской земли Владимир Соловьёв писал о смысле войны, но многие ли средние интеллигенты, не говоря уж о людях малообразованных, читали его нравственную философию…».

В монографии раскрыты научные и философские основания ноосферного прорыва России в свое будущее в XXI веке. Позитивная футурология предполагает концепцию ноосферной стратегии развития России, которая позволит ей избежать экологической гибели и позиционировать ноосферную модель избавления человечества от исчезновения в XXI веке. Книга адресована широкому кругу интеллектуальных читателей, небезразличных к судьбам России, человеческого разума и человечества. Основная идейная линия произведения восходит к учению В.И.