Греки и иррациональное - [13]
Гомер же в своем сказании полагал, что тот продолжает править в Фивах и после того, как вина его открывается; впоследствии Эдипа, видимо, убивают в бою и хоронят с царскими почестями.[163] По всей видимости, лишь более поздняя, киклическая поэма «Фиваида» создала софокловского «человека скорби».[164]
У Гомера не прослеживается вера в «инфекционный» или наследственный характер осквернения. Для архаического же сознания обе эти черты уже существовали[165] и несли с собой подспудный страх: ибо как человек может быть уверенным в том, что не подхватит что-нибудь нечистое из случайного общения или не унаследует скверну от позабытой обиды, нанесенной кому-нибудь его далеким предком? Подобные тревоги еще больше увеличивались из-за своей неопределенности — ведь нельзя найти для них причину, которую можно было бы узнать и разрешить. Видеть в этих взглядах источник архаического чувства вины, видимо, большое упрощение; но они, разумеется, выражали его, подобно тому как христианское чувство вины выражается через страх впадения в нравственное прегрешение. Разница между тем и этим, конечно, есть, и состоит она в том, что грех — это состояние падшей воли, болезнь человеческой души, тогда как осквернение — автоматическое следствие определенного поступка; оно принадлежит к миру внешних событий и действует с тем же полнейшим безразличием к мотиву поступка, с каким действует, скажем, тифозная вошь.[166] Строго говоря, архаическое чувство вины становится чувством греховности только в результате «интернализации» сознания (термин Кардинера[167]) — феномена, который появляется позднее и, вероятно, только в эллинистическом мире, причем становится распространенным спустя долгое время после того, как гражданское законодательство начало признавать важность мотива.[168] Перенесение понятия чистоты из сферы магии в сферу морали тоже произошло достаточно поздно: только в самом конце V в. мы встречаем ясные утверждения о том, что чистых рук недостаточно — сердце тоже должно быть чистым.[169]
Тем не менее трудно провести хронологически четкую линию: зачастую религиозная идея выражается самой жизнью задолго до того, как ее сформулируют в ясной форме. Я думаю, Пфистер в чем-то прав, считая, что в древнегреческом слове агос (термин, обозначающий наихудший вид миасмы) идеи осквернения, проклятия и греха были с самого начала очень тесно переплетены.[170] И в то время как катарсис в век архаики, несомненно, часто был не более чем механическим исполнением определенной ритуальной обязанности, понятие автоматического, квазифизического очищения могло совершенно незаметно перейти в глубокую мысль об искуплении за грех.[171] Есть несколько письменных свидетельств, исходя из которых едва ли можно сомневаться в том, что понятие искупления за грех было использовано в неординарном случае наложения дани на локрийцев.[172] Народ, который в компенсацию за преступление, совершенное далеким предком, посылал, столетие за столетием, двух дочерей знатнейших семей на умерщвление в далекую страну или, в лучшем случае, оставлял в храмах на положении рабынь — этот народ, надо полагать, действовал не только из-за страха опасности осквернения, но и в силу глубокого чувства наследственного греха, который должен быть искуплен только таким ужасным способом.
Я вернусь к вопросу о катарсисе в следующей главе. В данный же момент уместно вспомнить понятие вторжения в психику, которое мы уже изучали у Гомера, и спросить, какую роль оно играло в разветвленном религиозном контексте архаического века. Простейший способ ответить на это — рассмотреть некоторые послегомеровские случаи использования слова ате (а также ее сниженного варианта, теобласии) и слова даймон. Поступив подобным образом, мы обнаружим, что в некоторых отношениях эпическая традиция воспроизводится здесь с замечательной точностью. Ате продолжает сохранять свою иррациональность, отличающуюся от рационально ориентированного поведения: например, услышав, что Федра не хочет есть, хор вопрошает, происходит ли это по причине ате или из-за того, что Федра собирается покончить с собой.[173] Ате все еще коренится в тюмосе или френесе,[174] и факторы, воздействующие на ее появление, те же, что и у Гомера: преимущественно неотождествленный даймон, бог или боги, намного реже какой-нибудь конкретный Олимпиец;[175] изредка, как у Гомера, Эриния
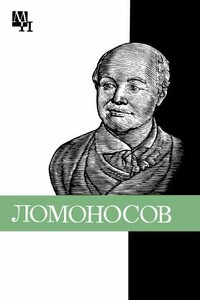
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.
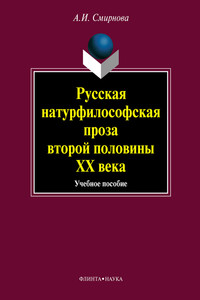
Русская натурфилософская проза представлена в пособии как самостоятельное идейно-эстетическое явление литературного процесса второй половины ХХ века со своими специфическими свойствами, наиболее отчетливо проявившимися в сфере философии природы, мифологии природы и эстетики природы. В основу изучения произведений русской и русскоязычной литературы положен комплексный подход, позволяющий разносторонне раскрыть их художественный смысл.Для студентов, аспирантов и преподавателей филологических факультетов вузов.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.

Книга посвящена жизни и творчеству видного французского философа-просветителя Э. Б. де Кондильяка, представителя ранней, деистической формы французского материализма. Сенсуализм Кондильяка и его борьба против идеалистической метафизики XVII в. оказали непосредственное влияние на развитие французского материализма.Для широкого круга.
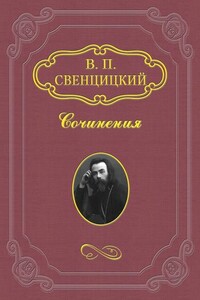
«…У духовных писателей вы можете прочесть похвальные статьи героям, умирающим на поле брани. Но сами по себе «похвалы» ещё не есть доказательства. И сколько бы таких похвал ни писалось – вопрос о христианском отношении к войне по существу остаётся нерешенным. Великий философ русской земли Владимир Соловьёв писал о смысле войны, но многие ли средние интеллигенты, не говоря уж о людях малообразованных, читали его нравственную философию…».

В монографии раскрыты научные и философские основания ноосферного прорыва России в свое будущее в XXI веке. Позитивная футурология предполагает концепцию ноосферной стратегии развития России, которая позволит ей избежать экологической гибели и позиционировать ноосферную модель избавления человечества от исчезновения в XXI веке. Книга адресована широкому кругу интеллектуальных читателей, небезразличных к судьбам России, человеческого разума и человечества. Основная идейная линия произведения восходит к учению В.И.