Грамши - [58]
Итак, если учесть, куда ныне дует ветер, я мог еще ожидать, помимо всего прочего, что какой-нибудь экзальтированный тип набросится на меня с кулаками…
Но вот случилось так, что бригадир, который до этого ехал во втором тюремном вагоне, перешел в тот, где находился я, и завязал со мной разговор. Это был необычайно интересный и своеобразный тип, который был полон „метафизических потребностей“, как сказал бы Шопенгауэр, и который умудрился удовлетворять их самым необычным и хаотическим образом. Он заявил мне, что всегда полагал, что у меня внешность „циклопическая“, так что в этом отношении он очень разочарован. Читал он тогда книгу М. Мариани „Равновесие эгоизмов“ и только что окончил книгу некоего Поля Жиля, в которой опровергался марксизм. Я, конечно, не стал говорить ему, что Жиль — французский анархист, не имеющий ни малейшего научного или какого-нибудь иного веса. Мне нравилось слушать, с каким пылким воодушевлением он говорил о самых путаных и разнородных вещах и понятиях; так может говорить лишь самоучка, умный, но не привыкший к дисциплине и методу. В один прекрасный момент он начал называть меня „маэстро“. Можешь представить себе, как это все меня позабавило! Так я на собственном опыте узнал, что представляет собой моя „слава“.
Что ты на это скажешь?»
Наконец миланская тюрьма. Тюрьма Сан-Витторе. Грамши не знал, сколько ему суждено пробыть здесь. Он коротал время как мог.
Утром выводили на двухчасовую прогулку. Ограничений в чтении не было. В течение дня Грамши получал пять ежедневных газет: «Коррьере», «Стампа», «Пополо д'Италиа», «Джорнале д'Италиа», «Секоло».
В библиотеке у него был двойной абонемент, то есть он имел право на восемь книг в неделю. Он покупал еще кое-какие журналы и миланскую финансово-экономическую газету. Словом, все время проходило у него в чтении. Письма родных до него почти не доходили. Он полагал, что в отношении этих писем, должно быть, приняты какие-то «таинственные» меры. И настоятельно писал домашним, чтобы они в письмах своих не делали ни малейших намеков, даже самых туманных и косвенных, на меры, принятые в отношении его. Он просил их ограничиваться только семейными новостями.
Проходит еще некоторое время. Нет, он не может отказаться от работы, перестать думать, ведь без этого он просто погибнет, превратится в животное. И новые идеи одолевают его. И он признается в одном из писем, адресованном Татьяне Шухт, сестре его жены, постоянно проживавшей в Италии: «Я одержим (и это состояние, думается мне, свойственно всем заключенным) вот какой мыслью: следовало бы сделать что-нибудь „für ewig“[37] согласно сложной гётевской концепции, которая, помню, доставила изрядные мучения нашему Пасколи[38]. Словом, я хотел бы, следуя заранее намеченному плану, заняться глубокой и последовательной разработкой какой-нибудь темы, которая увлекла бы меня и на которой сконцентрировались бы все мои духовные силы…»
Да, надо было бы описать все перипетии и впечатления, связанные с переездом с Устики в Милан, но всем ли это интересно так же, как ему? Ведь для него лично это связано с определенным душевным состоянием и даже с определенными страданиями; а для того чтобы это стало интересно другим, нужно было бы, вероятно, рассказ об увиденном и пережитом облечь в литературную форму… «А я вынужден писать наспех, ограничиваясь теми короткими минутами, когда в мое распоряжение предоставляются перо и чернила…»
11 апреля 1927 года Антонио Грамши пишет Татьяне Шухт из миланской тюрьмы: «Все же время идет очень быстро, гораздо быстрее, чем я думал. Со дня моего ареста (8 ноября) прошло уже пять месяцев и два месяца — со дня моего прибытия в Милан. Кажется невероятным, что прошло столько времени. Надо учесть, правда, что за эти пять месяцев я повидал и испытал всякое, и впечатлений было множество — самых что ни на есть удивительных и из ряда вон выходящих. С 8 по 25 ноября — в Риме, в полной и строжайшей изоляции; с 25 по 29 ноября — в Неаполе, в компании четырех моих товарищей-депутатов (вернее, трех, а не четырех, так как один был отделен от нас в Казерте и направлен на Тремити). Посадка на пароход, идущий в Палермо, и прибытие в Палермо 30-го. Восемь дней в Палермо: три тщетные попытки (из-за штормовой погоды) добраться из Палермо до Устики. Первое знакомство с арестованными сицилийцами, которых обвиняют в принадлежности к „мафии“; новый мир, который я знал только теоретически; сравниваю и проверяю свои суждения в этой области и прихожу к заключению, что они оказались довольно верными. 7 декабря прибытие на Устику, знакомство с миром уголовников: фантастические, невероятные вещи. Знакомлюсь с колонией бедуинов из Киренаики — политических ссыльных; очень интересная картина восточной жизни. Пребывание на Устике. 20 января отъезд. Четыре дня в Палермо. Переезд в Неаполь вместе с уголовными преступниками; Неаполь — знакомлюсь с целой галереей чрезвычайно интересных для меня типов; из всего юга я ведь знал фактически одну лишь Сардинию. В Неаполе, среди прочего, присутствую при обряде посвящения в „Каморру“[39], знакомлюсь с одним каторжанином (неким Артуром), который производит на меня неизгладимое впечатление. Спустя четыре дня — отъезд из Неаполя. Остановка в Кайанелло, в казарме карабинеров; знакомлюсь с товарищами по цепи, с которыми мне надлежит ехать до Болоньи. Два дня в Изернии в обществе этих типов. Два дня в Сульмоне. Ночь в Кастелламаре Адриатико, в казарме карабинеров. Два дня — вместе с шестьюдесятью заключенными. Они организуют в мою честь представление: уроженцы Рима великолепно читают стихи Паскарелла
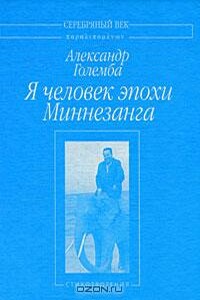
Для младших представителей и продолжателей Серебряного Века, волей судьбы не попавших в эмиграцию, в поэзии оставался едва ли не единственный путь: писать стихи, оставив надежду на публикацию; путь перфекционизма, уверенности в том, что рано или поздно лучшие времена наступят и стихи до читателя дойдут. Некоторые из таких поэтов оставались вовсе неизвестными современникам, другие - становились поэтами-переводчиками и хотя бы в этом качестве не выпадали из истории литературы. Одним из поэтов этого рода был Александр Големба (1922-1979); собранием его стихотворений издательство продолжает серию "Серебряный век", иначе говоря - "Пропущенные страницы Серебряного века".

Автобиография выдающегося немецкого философа Соломона Маймона (1753–1800) является поистине уникальным сочинением, которому, по общему мнению исследователей, нет равных в европейской мемуарной литературе второй половины XVIII в. Проделав самостоятельный путь из польского местечка до Берлина, от подающего великие надежды молодого талмудиста до философа, сподвижника Иоганна Фихте и Иммануила Канта, Маймон оставил, помимо большого философского наследия, удивительные воспоминания, которые не только стали важнейшим документом в изучении быта и нравов Польши и евреев Восточной Европы, но и являются без преувеличения гимном Просвещению и силе человеческого духа.Данной «Автобиографией» открывается книжная серия «Наследие Соломона Маймона», цель которой — ознакомление русскоязычных читателей с его творчеством.

Работа Вальтера Грундмана по-новому освещает личность Иисуса в связи с той религиозно-исторической обстановкой, в которой он действовал. Герхарт Эллерт в своей увлекательной книге, посвященной Пророку Аллаха Мухаммеду, позволяет читателю пережить судьбу этой великой личности, кардинально изменившей своим учением, исламом, Ближний и Средний Восток. Предназначена для широкого круга читателей.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.