Город на горе - [3]
Толпа озверелых работяг набрасывалась на вора, пойманного «на живца». Каждый считал своим долгом ударить, наказать за преступление, и хоть удары доходяг не могли сломать костей, но душу вышибали.
Это вполне человеческое бессердечие. Черта, которая показывает, как далеко ушел человек от зверя.
Избитый, окровавленный вор-неудачник забивался в угол барака, а бывший министр, заместитель бригадира, произносил перед бригадой оглушительные речи о вреде краж, о священности тюремной пайки.
Все это жило перед моими глазами, и я, глядя на обедающих доходяг, вылизывающих миски классическим, ловким движением языка, и сам вылизывая миску столь же ловко, думал: «Скоро на столе будет появляться хлеб-приманка, хлеб-„живец“. Уже есть, наверное, здесь и бывший министр, и бывший журналист, делодаватели, провокаторы и лжесвидетели». Игра «на живца» была очень в ходу в спецзоне в мое время.
Чем-то это бессердечие напоминало блатарские романы с голодными проститутками (да и проститутками ли?), когда «гонораром» служит пайка хлеба или, вернее, по взаимному условию, сколько из этой пайки женщина успевала съесть, пока они лежали вместе. Все, что она не успевала съесть, блатарь отбирал и уносил с собой.
– Я паечку-то заморожу в снегу заранее и сую ей в рот – много не угрызет мерзлую… Иду обратно – и паечка цела.
Это бессердечие блатарской любви – вне человека. Человек не может придумать себе таких развлечений, может только блатарь.
День за днем я двигался к смерти и ничего не ждал.
Все еще я старался выползти за ворота зоны, выйти на работу. Только не отказ от работы. За три отказа – расстрел. Так было в тридцать восьмом году. А сейчас шел сорок пятый, осень сорок пятого года. Законы были прежние, особенно для спецзон.
Меня еще не бросали надзиратели с горы вниз. Дождавшись взмаха руки конвоира, я бросался к краю ледяной горы и скатывался вниз, тормозясь за ветки, за выступы скал, за льдины. Я успевал встать в ряды и шагать под проклятия всей бригады, потому что я шагал плохо; впрочем, немного хуже, немного тише всех. Но именно эта незначительная разница силы делала меня предметом общей злобы, общей ненависти. Товарищи, кажется, ненавидели меня больше, чем конвой.
Шаркая бурками по снегу, я передвигался к месту работы, а лошадь тащила мимо нас на волокуше очередную жертву голода, побоев. Мы уступали лошади дорогу и сами ползли туда же – к началу рабочего дня. О конце рабочего дня никто не думал. Конец работы приходил сам собой, и как-то не было важно – придет этот новый вечер, новая ночь, новый день – или нет.
Работа была тяжелей день ото дня, и я чувствовал, что нужны какие-то особые меры.
– Гусев. Гусев! Гусев поможет.
Гусев был мой напарник со вчерашнего дня на уборке какого-то нового барака – мусор сжечь, остальное в землю, в подпол, в вечную мерзлоту.
Я знал Гусева. Мы встречались на прииске года два назад, и именно Гусев помог найти украденную у меня посылку, указал, кого нужно бить, и того били всем бараком, и посылка нашлась. Я дал тогда Гусеву кусок сахару, горсть компоту – не все же я должен был отдать за находку, за донос. Гусеву я могу довериться.
Я нашел выход: сломать руку. Я бил коротким ломом по своей левой руке, но ничего, кроме синяков, не получилось. Не то сила у меня была не та, чтоб сломать человеческую руку, не то внутри какой-то караульщик не давал размахнуться как следует. Пусть размахнется Гусев.
Гусев отказался.
– Я бы мог на тебя донести. По закону разоблачают членовредителей, и ты ухватил бы три года добавки. Но я не стану. Я помню компот. Но браться за лом не проси, я этого не сделаю.
– Почему?
– Потому что ты, когда тебя станут бить у опера, скажешь, что это сделал я.
– Я не скажу.
– Кончен разговор.
Надо было искать какую-то работу еще легче легкого, и я попросил доктора Ямпольского взять меня к себе на строительство больницы. Ямпольский ненавидел меня, но знал, что я работал санитаром раньше.
Работником я оказался неподходящим.
– Что же ты, – говорил Ямпольский, почесывая свою ассирийскую бородку, – не хочешь работать.
– Я не могу.
– Ты говоришь «не могу» мне, врачу.
«Вы ведь не врач», – хотел я сказать, ибо я знал, кто такой Ямпольский. Но «не веришь – прими за сказку». Каждый в лагере – арестант или вольный, все равно, работяга или начальник – тот, за кого он себя выдает… С этим считаются и формально, и по существу.
Конечно, доктор Ямпольский – начальник санчасти, а я – работяга, штрафник, спецзонник.
– Я теперь понял тебя, – говорил злобно доктор. – Я тебя выучу жить.
Я молчал. Сколько людей в моей жизни меня учило жить.
– Завтра я тебе покажу. Завтра ты у меня узнаешь…
Но завтра не наступило.
Ночью, вырвавшись вверх по ручью, до нашего города на горе добрались две машины, два грузовика. Рыча и газуя, приползли к воротам зоны и стали сгружаться.
В грузовиках были люди, одетые в иностранную красивую форму.
Это были репатрианты. Из Италии, трудовые части из Италии. Власовцы? Нет. Впрочем, «власовцы» звучало для нас, старых колымчан, оторванных от мира, слишком неясно, а для новеньких – слишком близко и живо. Защитный рефлекс говорил им: молчи! А нам колымская этика не позволяла расспрашивать.

Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть…

«Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку…».

«Очерки преступного мира» Варлама Шаламова - страшное и беспристрастное свидетельство нравов и обычаев советских исправительно-трудовых лагерей, опутавших страну в середине прошлого века. Шаламов, проведший в ссылках и лагерях почти двадцать лет, писал: «...лагерь - отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту - не надо его видеть. Но уж если ты его видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей стороны, я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Это — подробности лагерного ада глазами того, кто там был.Это — неопровержимая правда настоящего таланта.Правда ошеломляющая и обжигающая.Правда, которая будит нашу совесть, заставляет переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем.

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.Написанное Шаламовым — это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.Все самое ценное из прозаического и поэтичнского наследия писателя составитель постарался включить в эту книгу.
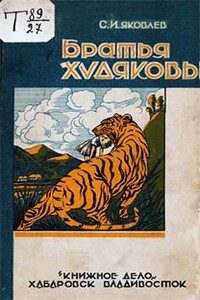
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новую книгу известного молдавского поэта и прозаика Николае Есиненку вошли три небольшие повести и цикл рассказов. Заглавная повесть сборника «Деревянная пушка» посвящена военной теме: беспомощный старик и его невестка, оказавшиеся в гуще военных событий, вступают в неравную схватку с врагом и — побеждают. О переменах, происходящих в общественной жизни, в духовном мире нашего современника, повествуется в рассказах, представленных в книге.

Две повести и рассказы, составившие новую книгу Леонида Комарова, являются как бы единым повествованием о нашем времени, о людях одного поколения. Описывая жизнь уральских машиностроителей, автор достоверно и ярко рисует быт и нравы заводского поселка, характеры людей, заставляет читателя пристально вглядеться в события послевоенных лет.

В романе А. Савеличева «Забереги» изображены события военного времени, нелегкий труд в тылу. Автор рассказывает о вологодской деревне в те тяжелые годы, о беженцах из Карелии и Белоруссии, нашедших надежный приют у русских крестьян.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
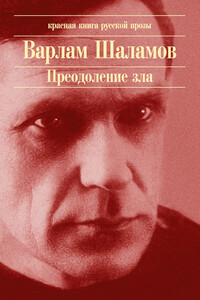
«Полупьяный радист распахнул мои двери.– Тебе ксива из управления, зайди в мою хавиру. – И исчез в снегу во мгле…».
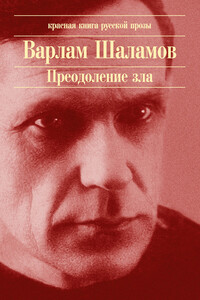
«Еще в то благодатное время, когда Мерзляков работал конюхом и в самодельной крупорушке – большой консервной банке с пробитым дном на манер сита – можно было приготовить из овса, полученного для лошадей, крупу для людей, варить кашу и этим горьким горячим месивом заглушать, утишать голод, еще тогда он думал над одним простым вопросом…».

«Человек в белом халате протянул руку, и Андреев вложил в растопыренные, розовые, вымытые пальцы с остриженными ногтями свою соленую, ломкую гимнастерку. Человек отмахнулся, затряс ладонью…».
