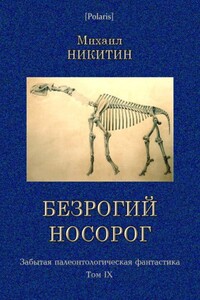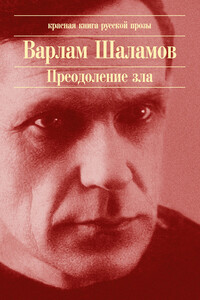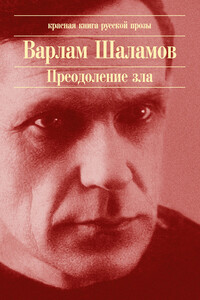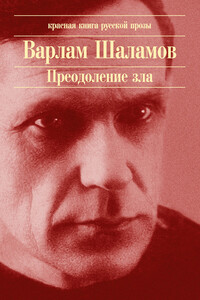В спецзоне, на прииске Джелгала давно уже поговаривали, что сюда привезут репатриантов. Без срока. Приговора их везут где-то сзади, после. Но люди были живые, живее колымских доходяг.
Для репатриантов это был конец пути, начавшегося в Италии, на митингах. Родина вас зовет, Родина прощает. С русской границы к вагонам был поставлен конвой. Репатрианты прибыли прямо на Колыму, чтобы разлучить меня с доктором Ямпольским, спасти меня от спецзоны.
Ничего, кроме шелкового белья и новенькой военной формы заграничной, у репатриантов не осталось. Золотые часы и костюмы, рубашки репатрианты променяли по дороге на хлеб – и это было у меня, дорога была длинная, и я хорошо эту дорогу знал. От Москвы до Владивостока этап везут сорок пять суток. Потом пароход Владивосток – Магадан – пять суток, потом бесконечные сутки транзиток, и вот конец пути – Джелгала.
На машинах, которые привезли репатриантов, отправили в управление – в неизвестность – пятьдесят человек спецзаключенных. Меня не было в этих списках, но в них попал доктор Ямпольский, и с ним больше я в жизни не встречался.
Увезли старосту, и я в последний раз на его шее увидел шарф, доставивший мне столько мучений и забот. Вши были, конечно, выпарены, уничтожены.
Значит, репатриантов будут зимой раскачивать надзиратели и швырять вниз, а там привязывать к волокуше и волочить в забой на работу. Как кидали нас…
Было начало сентября, начиналась зима колымская…
У репатриантов сделали обыск и привели в трепет всех. Опытные лагерные надзиратели извлекли на свет то, что прошло через десятки обысков на «воле», начиная с Италии, – небольшую бумагу, документ, манифест Власова! Но это известие не произвело ни малейшего впечатления. О Власове, о его РОА мы ничего не слыхали, а тут вдруг манифест.
А что им за это будет? – спросил кто-то из сушивших возле печки хлеб.
– Да ничего не будет.
Сколько из них было офицеров – я не знаю. Офицеров-власовцев расстреливали; возможно, тут были только рядовые, если помнить о некоторых свойствах русской психологии, натуры.
Года через два после этих событий случилось мне работать фельдшером в японской зоне. Там на любую должность – дневальный, бригадир, санитар – обязательно принимался офицер, и это считалось само собой понятным, хотя пленные офицеры-японцы в больничной зоне формы не носили.
У нас же репатрианты разоблачали, вскрывали по давно известным образцам.
– Вы работаете в санчасти?
– Да, в санчасти.
– Санитаром назначили Малиновского. Позвольте вам доложить, что Малиновский сотрудничал с немцами, работал в канцелярии, в Болонье. Я лично видел.
– Это не мое дело.
– А чье же? К кому же мне обратиться?
– Не знаю.
– Странно. А шелковая рубашка нужна кому-нибудь?
– Не знаю.
Подошел радостный дневальный, он уезжал, уезжал, уезжал из спецзоны.
– Что, попался, голубчик? В итальянских мундирах в вечную мерзлоту. Так вам и надо. Не служите у немцев! И тогда новенький сказал тихо:
– Мы хоть Италию видели! А вы? И дневальный помрачнел, замолчал. Колыма не испугала репатриантов.
– Нам тут все, в общем, нравится. Жить можно. Не понимаю только, почему ваши в столовой никогда не едят хлеба – эту двухсотку или трехсотку – кто как наработал. Ведь тут проценты?
– Да, тут проценты.
– Ест суп и кашу без хлеба, а хлеб почему-то уносит в барак.
Репатриант коснулся случайно самого главного вопроса колымского быта.
Но мне не захотелось отвечать:
«Пройдет две недели, и каждый из вас будет делать то же самое».
(1967)