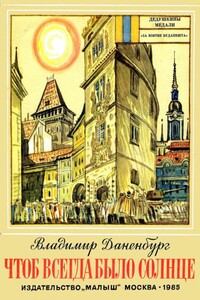Голос солдата - [111]
— Не задерживайся, Слава! Сыграем партию.
Перед тем как открыть дверь в палату, я останавливаюсь, наэлектризованный собственными мыслями. Сейчас увижу Грушецкого. Подонок! Сволочь! Я поговорю с ним… Все должны знать правду о нем и презирать его, не смотреть в его сторону. Пусть поймет, ничтожество, пусть почувствует, что такую подлость ему никогда не простят. Никогда!..
Открываю дверь. Грушецкого на месте нет. И Васьки Хлопова — тоже. «Во дворе в шахматы играют, — догадываюсь я. — Развлекаются как ни в чем не бывало. Вот подонок! Ничего, я и там его найду. Пусть сам и все послушают…»
Вдруг начинает дрожать парализованная нога. Это, наверное, от нервного перевозбуждения. Вот новости! Такого со мной давно не бывало. Но ничего, поговорю сейчас как следует с Грушецким — успокоюсь. Главное — дать этому выход.
А нога дрожит и дрожит. Не могу на нее наступить. Неужели из-за этого не найду Грушецкого, не выскажу ему всего, что у меня в душе?! Черт с ней, с ногой! Заставлю ее слушаться! Делаю шаг, другой, и дрожь постепенно ослабевает. Оказывается, важнее всего — уметь руководить собственным телом, а не подчиняться его капризам.
Спускаюсь на первый этаж. Навстречу мне, ощупывая ногами пол, идет по коридору Борис. Шнурок на одной парусиновой белой туфле развязался и червячком извивается по полу. Голова слепого привычно запрокинута, как будто он рассматривает потолок. Лицо, в жестких мазках шрамов и рубцов, окаменело. Пуговицы белого халата застегнуты неправильно, и крепкая атлетическая фигура кажется от этого скособоченной, одна рука — длиннее другой.
Жалкий вид Бориса укрепляет мою решимость, и я выхожу во двор целеустремленный, воинственно-неумолимый. Где, где этот мелкий тип, это ничтожество? Сейчас он услышит от меня кое-что такое, чего ему, наверное, никто никогда не говорил. Никакие шуточки и увертки ему не помогут!
В зарослях деревьев и кустов позади здания клиники вокруг скамьи, на которой играли в шахматы Грушецкий и Хлопов, толпился народ. Нашел Грушецкий партнера! Но болельщики, ничего не смыслящие в шахматах, переживали, волновались…
— Тебя не мучают угрызения совести? — Я возник перед моим новоявленным врагом внезапно. — Не мешают развлекаться?
— Вопросы адресованы мне? — Грушецкого, кажется, ничем нельзя была вывести из себя. — Я правильно понял?
— Правильно, правильно! Никогда не думал, что среди нас могут быть такие подонки. Зайди в корпус, полюбуйся своей работой. Помоги слепому шнурок завязать на туфле. Как ты мог?! — Я почувствовал, что вот-вот сорвусь на крик. А в глазах Грушецкого не было и тени раскаяния. Я вдруг с удивлением ощутил, как во мне тает злая непримиримость. Нельзя было позволить себе смягчиться, и я враждебно спросил: — Не понимаешь разве, что отбить жену у слепого — это… это низость? Не приходилось так думать?
— Напрасно ты так, Слава. Клянусь тебе, напрасно…
Обступившие скамью ходячие больные раздосадованно загалдели. Васька Хлопов уставился на меня недоумевающе. Было странно, что никто меня не поддержал, не набросился вслед за мной на Грушецкого. Своим воинственным выпадом добился я только одного: теперь всем было не до шахмат.
Леонид собрал фигуры, сложил в коробку и вручил ее соседу, у которого были в порядке ноги и руки и который всегда готов был помочь инвалидам что-то поднести, переставить, поднять. Потом Грушецкий взял свои щегольские костыли.
— Пойдем. — Он поднялся. — Надо объясниться.
Отправились мы в сквер у летнего кинотеатра, нашли свободную скамью в тени. По пути сюда не было сказано ни слова. И только усевшись, Грушецкий достал из кармана сине-белую пачку «Казбека», постучал мундштуком папиросы по коробке и пристально посмотрел на меня:
— Ты в самом деле считаешь меня подонком?
— А как по-твоему? Если кто-то отбивает жену у товарища своего по несчастью, незрячего инвалида-фронтовика, подонок он или нет? Видишь, отворачиваешься…
— Не люблю оправдываться. — Грушецкий прикурил, выпустил вверх струю дыма, подождал, пока она растает, и повернулся ко мне. — С другим на эту тему я бы и разговаривать не стал. Но ты — особый случай. Не хочу быть в твоих глазах подлецом. Хотя и не надеюсь оправдаться. Обидно. Ты, Слава, по моим наблюдениям, больше нас всех сохранил в себе чистоты довоенной. Как тебя долбануло! Ничего живого как будто не осталось, а вот есть в тебе что-то такое…
Ветер зашелестел листвой над нашими головами, по лицу Леонида прошли солнечные блики. Он сидел откинувшись на спинку скамьи и держа одной рукой оба костыля с плексигласовыми упорами. Второй рукой он прижал к груди согнутую в колене уцелевшую ногу. С губ его свисала дымящаяся папироса. Высокий лоб разделила на два этажа глубокая морщина.
— Меня, конечно, есть в чем упрекнуть. Я — не святой. Но совсем не в том, за что ты на меня набросился. Виноват я перед Рубабой. Вот перед кем я действительно подлец. А с этой потаскухой Люськой, по-моему, не согрешил только тот, у кого не было желания. Я долго держался. Ты веришь?
Я не ответил.
— Вот видишь, не хочешь ты мне верить. — Он огорченно покачал головой. — У меня, Слава, характер не такой, как у тебя. Твердости мне не хватает. А в таких делах — ты со временем сам поймешь — соскользнуть ничего не стоит…

Граф Геннинг Фридрих фон-Бассевич (1680–1749) в продолжении целого ряда лет имел большое влияние на политические дела Севера, что давало ему возможность изобразить их в надлежащем свете и сообщить ключ к объяснению придворных тайн.Записки Бассевича вводят нас в самую середину Северной войны, когда Карл XII бездействовал в Бендерах, а полководцы его терпели поражения от русских. Перевес России был уже явный, но вместо решительных событий наступила неопределенная пора дипломатических сближений. Записки Бассевича именно тем преимущественно и важны, что излагают перед нами эту хитрую сеть договоров и сделок, которая разостлана была для уловления Петра Великого.Издание 1866 года, приведено к современной орфографии.

«Рассуждения о Греции» дают возможность получить общее впечатление об активности и целях российской политики в Греции в тот период. Оно складывается из описания действий российской миссии, их оценки, а также рекомендаций молодому греческому монарху.«Рассуждения о Греции» были написаны Персиани в 1835 году, когда он уже несколько лет находился в Греции и успел хорошо познакомиться с политической и экономической ситуацией в стране, обзавестись личными связями среди греческой политической элиты.Персиани решил составить обзор, оценивающий его деятельность, который, как он полагал, мог быть полезен лицам, определяющим российскую внешнюю политику в Греции.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.