Голое поле - [11]
Я смотрю в низкое оконце на ровный пустырь долины, где белеют легкие ряды птиц до синих гор. И чудится мне на мгновенье, что вижу я сон. И во сне вижу я белые русские лагери, может быть Севастопольской обороны, может быть на пустырях Сан-Стефано, может быть под Геок-Тепе.
Серебрист полусвет и в палатке генерала Витковского. Как войдешь - дощатый стол, где разложены военные карты и зеленые папки дел, а за белой занавеской другой дощатый стол - это генеральская столовая. На полотняной стене образ: седой святитель в малиновых ризах с голубым омофором.
Генерал Витковский, невысокий, мягкой поступи человек, с маленькими, белыми руками, в легких веточках голубых жил. У него седеющая, русая голова и выбрит до синевы его круглый подбородок, а глаза светлые и стальные, с белыми клинками холодных зрачков. И от его лица, и от мягкой поступи, и от белых рук веет монашеской чистотой.
Генерал Витковский, о холодном бесстрашии и о неспешных прогулках которого под прямой наводкой, в огне, знает вся армия - пьет тихими глоточками из белой, хрупкой чашки желтый чай. Он пьет чай с сушеным черносливом и мягко говорить мне:
- Вы его в чашку положите. Вкуснее. И от, желудка помогает.
Бесстрашный генерал, холодный храбрец, подвигает ко мне белой рукой блюдце с черносливом и мягко поддерживает разговор.
- А я в Константинополе так и не был. И быть там желания не имею.
В белой тишине палатки я точно в белой монастырской келье. И точно, когда-то давно, - в северном нашем монастыре, вот так же мягко угощал меня черносливом мягкий, тихий монах.
Я смотрю на маленькие чуть даже женственные пальцы генерала, и мне кажется, что в сумерках, когда поют вечернюю зорю, он шепчет своему святителю в малиновых ризах с голубым омофором сокровенные молитвы и крестит быстро грудь пугливыми, легкими крестиками. Я думаю, что такие же как он, тихие, монашеской чистоты, капитаны Долгого Парламента и лорд-протектора Оливера Кромвеля ходили в огонь с библейскими полками круглоголовых пуритан, носивших псалтири под кожаными колетами.
У генеральской палатки, под темным сторожем-платаном, стоит часовой, сабля наголо. И когда выходит генерал, часовой дергает плечом и сабля мгновенно высверкивает и гаснет.
Над бархатистой синевой гор догорает, в золотистых дымах, багряный океан заката. Огненные копья солнца меркнут. Рушатся громады облачных башен. От синих гор, в багряный океан, подымается всё выше и выше, как прилив, синяя вечерняя тишина.
Трубач поет вечернюю зорю.
Я его вижу. Он стоит далеко синей тенью. Полыхает на меди трубы золото заката. Трубач поет вечернюю зорю, высоко подымая трубу на четыре стороны света.
Зоря зовет кого-то из за гор, из вечерней дымной дали. Подымается короткими криками. Точно птица бьет багряными крыльями, порываясь лететь
на закат.
Я ее вижу, четкую, синюю тень трубача. Полыхает на меди багрянец. И не знаю я, о чём поет и кого кличет со всего света синий трубач. Иду тихо к белым палаткам Дроздов. Передо мной, по песку тропы движется моя длинная, вечерняя тень.
В палатке молодых генералов, Манштейна и Туркула, серый полусвет. Палатка глубоко врыта в глинистую землю и надо сходить три-четыре земляных ступеньки вниз. В палатке влажный холодок погреба.
Дощатый, непокрытый и длинный, как гробовая домовина, стол вдоль палатки. Посреди его, из круглого прореза доски, торчит коричневый столб, что держит палаточный шатер.
Как холодная келья палатка молодых генералов, как каземат, где исписывают стены короткими и тоскующими строками-криками, где режут и царапают на камне вензеля имен, молитвы и проклятья... У меня тихая тягостность на душе. Мне чудится, что под этим серым холодным шатром, низко у земли, бьются связанные птицы - гордые и страшные.
Генерал Туркул сидит у стола, закинув ногу на ногу. Чуть поблескивают его высокие и мягкие офицерские голенища. Крутая грудь облита темной гимнастеркой. Генерал узок в талии. Его длинные, крепкие пальцы, в ободках золотых колец, мнут нервно папиросу и обсыпают на стол желтый волокнистый табак.
Туркулу лет 25 и похож он на всех корниловцев и дроздов - всегда сухощавых, черноволосых и черноглазых. У Туркула маленькая, причесанная тщательно на пробор, литая голова, узкий нос с горбинкой и черная нитка усов над молодым ртом с обсохлыми губами. Он сидит закинув голову и в сером полусвете чуть ощерен его рот, и тускло поблескивает золотая пломба зуба.
Я смотрю, как он смеется, отчего вниз от раздутых крыльев носа пролегают до губ глубокие черные складки. Я смотрю, как он просто и шумно, по-солдатски, сплевывает. Смотрю в его глаза. Неуловим их цвет. Коричнево-серые с железным отливом. И чувствую я, меж его и моими глазами, зыбкую, стеклянную стену.
Генерал Манштейн опер подбородок о руку. Другой руки у Манштейна нет до плеча. Генеральский погон висит на одной пуговке.
Манштейн рыжеватый шатен. Ему лет 28. Лицо его по актерски выбрито. Страдальчески, как у Гаршина, приподняты черные бровки, и чудится мне, что его молодое лицо, как трагическая маска всех невысказанных страданий белой армии... Вот точно поднял он усталые глаза от ветхой Книги Бытия и горит в страдальческом взгляде невысказанная печаль.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«…Казацкая грамота «Роспись об Азовском осадном сидении донских казаков», привезенная на Москву царю Михаилу Федоровичу азовским атаманом Наумом Васильевым, это трехсотлетнее казацкое письмо, по совершенной простоте и силе едва ли не равное «Слову о полку Игореве», – страшно, с потрясающей живостью, приближает к нам ту Россию воли, крови и долга, какой мы разучились внимать.Торопливо, хотя бы кусками, я постараюсь пересказать это казачье письмо…».
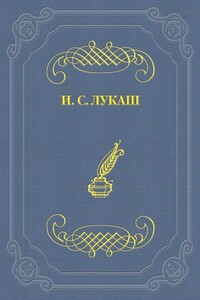
«…– Ничто тебя да не смутит, ничто тебя да не остановит, ничто тебя да не устрашит – сам Господь с тобой.Такие слова Терезы Авильской вырезаны на ее статуе.Это – одна из самых вдохновенных скульптур Беклемишевой…».

Первое в России издание, посвящённое «московской теме» в прозе русских эмигрантов. Разнообразные сочинения — романы, повести, рассказы и т. д. — воссоздают неповторимый литературный «образ» Москвы, который возник в Зарубежной России.В первом томе сборника помещены произведения видных прозаиков — Ремизова, Наживина, Лукаша, Осоргина и др.
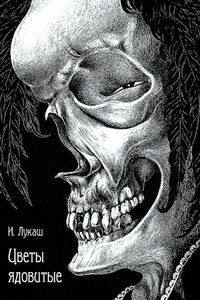
И. С. Лукаш (1892–1940) известен как видный прозаик эмиграции, автор исторических и биографических романов и рассказов. Менее известно то, что Лукаш начинал свою литературную карьеру как эгофутурист, создатель миниатюр и стихотворений в прозе, насыщенных фантастическими и макабрическими образами вампиров, зловещих старух, оживающих мертвецов, рушащихся городов будущего, смерти и тления. В настоящей книге впервые собраны произведения эгофутуристического периода творчества И. Лукаша, включая полностью воспроизведенный сборник «Цветы ядовитые» (1910).
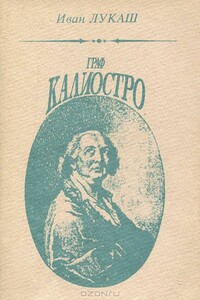
Повесть о философском камне, госпоже из дорожного сундука, великих розенкрейцерах, волшебном золоте, московском бакалавре и о прочих чудесных и славных приключениях, бывших в Санкт-Петербурге в 1782 году.

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».
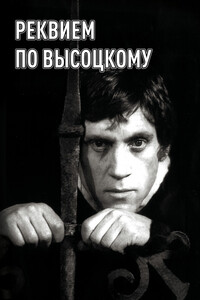
Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.