Голое небо - [3]
1925
«Играют вечерние дымы…»
1925
«Все мы дети. Что мы знаем?..»
1923
Екатерингоф
1918
Средневековье
1923
Ma bougie s’eteint
1919
Лоцманский остров
1922
«Весь день мой исполнен заботы…»
1924
«Трагические древние герои…»
1926
Ночной стих
1926
С вышки Исаакиевского собора
Весна 1925
На берегу Вытегры
1926
Врач сказал
1926
В баре
Октябрь 1926
Закон (1-й вариант)

Талантливый драматург, романист, эссеист и поэт Оскар Уайльд был блестящим собеседником, о чем свидетельствовали многие его современники, и обладал неподражаемым чувством юмора, которое не изменило ему даже в самый тяжелый период жизни, когда он оказался в тюрьме. Мерлин Холланд, внук и биограф Уайльда, воссоздает стиль общения своего гениального деда так убедительно, как если бы побеседовал с ним на самом деле. С предисловием актера, режиссера и писателя Саймона Кэллоу, командора ордена Британской империи.* * * «Жизнь Оскара Уайльда имеет все признаки фейерверка: сначала возбужденное ожидание, затем эффектное шоу, потом оглушительный взрыв, падение — и тишина.

Проза И. А. Бунина представлена в монографии как художественно-философское единство. Исследуются онтология и аксиология бунинского мира. Произведения художника рассматриваются в диалогах с русской классикой, в многообразии жанровых и повествовательных стратегий. Книга предназначена для научного гуманитарного сообщества и для всех, интересующихся творчеством И. А. Бунина и русской литературой.

Владимир Сорокин — один из самых ярких представителей русского постмодернизма, тексты которого часто вызывают бурную читательскую и критическую реакцию из-за обилия обеденной лексики, сцен секса и насилия. В своей монографии немецкий русист Дирк Уффельманн впервые анализирует все основные произведения Владимира Сорокина — от «Очереди» и «Романа» до «Метели» и «Теллурии». Автор показывает, как, черпая сюжеты из русской классики XIX века и соцреализма, обращаясь к популярной культуре и националистической риторике, Сорокин остается верен установке на расщепление чужих дискурсов.

Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

Филарет Иванович Чернов (1878–1940) — талантливый поэт-самоучка, лучшие свои произведения создавший на рубеже 10-20-х гг. прошлого века. Ему так и не удалось напечатать книгу стихов, хотя они публиковались во многих популярных журналах того времени: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Нива», «Огонек», «Живописное обозрение», «Новый Сатирикон»…После революции Ф. Чернов изредка печатался в советской периодике, работал внештатным литконсультантом. Умер в психиатрической больнице.Настоящий сборник — первое серьезное знакомство современного читателя с философской и пейзажной лирикой поэта.

Лидия Давыдовна Червинская (1906, по др. сведениям 1907-1988) была, наряду с Анатолием Штейгером, яркой представительницей «парижской ноты» в эмигрантской поэзии. Ей удалось очень тонко, пронзительно и честно передать атмосферу русского Монпарнаса, трагическое мироощущение «незамеченного поколения».В настоящее издание в полном объеме вошли все три прижизненных сборника стихов Л. Червинской («Приближения», 1934; «Рассветы», 1937; «Двенадцать месяцев» 1956), проза, заметки и рецензии, а также многочисленные отзывы современников о ее творчестве.Примечания:1.

Вере Сергеевне Булич (1898–1954), поэтессе первой волны эмиграции, пришлось прожить всю свою взрослую жизнь в Финляндии. Известность ей принес уже первый сборник «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), за которым последовали еще три: «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 1954).Все они полностью вошли в настоящее издание.Дополнительно републикуются переводы В. Булич, ее статьи из «Журнала Содружества», а также рецензии на сборники поэтессы.
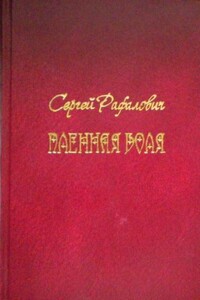
Сергей Львович Рафалович (1875–1944) опубликовал за свою жизнь столько книг, прежде всего поэтических, что всякий раз пишущие о нем критики и мемуаристы путались, начиная вести хронологический отсчет.По справедливому замечанию М. Л. Гаспарова. Рафалович был «автором стихов, уверенно поспевавших за модой». В самом деле, испытывая близость к поэтам-символистам, он охотно печатался рядом с акмеистами, писал интересные статьи о русском футуризме. Тем не менее, несмотря на обилие поэтической продукции, из которой можно отобрать сборник хороших, тонких, мастерски исполненных вещей, Рафалович не вошел практически ни в одну антологию Серебряного века и Русского Зарубежья.