Гибель всерьез - [75]
И поскольку главный мой враг — Антоан, именно у него я и хочу вырвать зеркало. А у этого зеркала выведать тайну: что же отторгает от меня Омелу? Чтобы кончилось мое бесконечное отступление, чтобы с отступлением от Омелы было покончено, и оно было отброшено и позабыто! Ради этого я вновь возвращаюсь к красной папке, которую мне так неосторожно доверил мой черноглазый двойник, и достаю из нее вторую историю, которая продолжает, а вернее, дополняет «Эхо», уточняет «Эхо»-сновидение, где брезжит образ Омелы. В своей новой истории Антоан, похоже, набросал картину собственной жизни, до того как в ней появилась Омела. Сам он постарался стушеваться в этой истории, где еще нет никого из нас. Такая попытка самоустраниться объясняется, как я понимаю, накопленным раздражением, которым он не раз делился со мной. Он устал, ему опротивело, что критика в каждом его произведении видит лишь его всем известную общественную позицию, в каждом слове ищет политический подтекст, полемику или пропаганду, тогда как он занят совершенно иным, выявляя таинственные, подспудные связи и нити! В «Карнавале» Антоан в самом деле лишил себя отражения двойника, а если и наделил кое-какими особенностями своей жизни — жизни, наставшей для него много позже описываемой истории, то наделил ими вполне реальное лицо, человека известного, которого действительно можно встретить на концерте в Париже, куда он ходит вместе с женой, которую очень любит… Но и в «Карнавале», и в нарочито неправдоподобном «Эдипе» — я, кажется, говорил уже, что так называется третья история из красной папки, — разобраться можно, только прочитав их. Хотя я не уверен, между нами говоря, что и тогда что-то станет яснее. Однако прежде чем помещать здесь «Карнавал», я вот на что хочу обратить внимание: Антоан и тут не сдержался, ему снова понадобилась музыка, — услышанная на концерте, она навела его на мысли, навеяла воспоминания; музыка и дает мне основание подозревать, что на протяжении всего рассказа Антоаном владеет все то же безумие — безумие, которое толкнуло Эрика Доброго на убийство и которое превращает Антоана, меня, всех на свете Кристианов и всех других, кто слушает Омелу, в ее отражения, заставляя терять собственную душу, чтоб стать зеркалом ее души…
Музыка… кто знает, какая музыка превращает датских королей в убийц?.. Может, тот, кто играл в замке на цитре, выдумал джаз или канте хондо, пьянящий ритм фадо или волшебные мелодии «Парсифаля»? История Эрика Доброго не покажется невероятной тому, кто видел молодежь, беснующуюся под электрогитару битлов или Джонни Холидея. Музыка заставляет человека отказаться от себя.
Итак, я возвращаюсь к «Карнавалу» и, словно бы в подтверждение эпиграфа из Рембо, не узнаю уже того, кто рассказывает, — этого другого «я», совершенно другого всякий раз, как только этот «я» возникает в моей памяти. Другой? Значит, есть и еще кто-то другой? И я не один в этой стране сновидений, где то, что было, и то, что будет, смешивается в том, что есть.
Второй рассказ из красной папки
Карнавал
Я — это некто, кто не я.
Артюр Рембо
I
Den Schatten hab’ich, der mir angeboren,Ich habe meinen Schatten nie verloren.Adalbert von Chamisso[76]
«Музыка — посредница между чувственным и духовным», — будто бы сказал Бетховен Беттине фон Арним. Мог ли я не вспомнить его слова, когда Рихтер заиграл «Карнавал»… хотя теперь я уже не поручусь, может, и что-то другое… тогда в зале Гаво, где ему заблагорассудилось играть, где завесили коврами стены и зажгли в канделябрах свечи, потому что ему так захотелось. Все было безумным в этот вечер — безумно поздно начинался концерт, который комиссар полиции мог отменить в самый последний миг, опасаясь беспорядков из-за безумного наплыва публики, заплатившей безумные деньги за билет, — Париж был без ума от гениального исполнителя; а безвкусное убранство зала, а безумные глаза самого гения на младенчески розовом лице, с венчиком светлых кудрявых волос вокруг лысины, лукавого гения, который держался так, словно собирался всех обвести вокруг пальца?.. Но что бы там ни было, второй или третий раз в моей жизни свершилось чудо: музыка, творимая руками божества, была столь совершенна, что мало-помалу исчезла, я слушал только себя.
Совершенная музыка обладает необычайным свойством: она очищает чувства от чужеродного; сердце и ум освободились вдруг от всего, что, казалось, их так занимало. Музыка, ширясь, оттесняла, стирала окружающее, как стирает его воспоминание, творя, нет, воскрешая давно позабытую картину — и в окно словно бы повеял свежестью алый снег. День клонится к закату. Просторная низкая комната, где я тогда сидел, видится мне неотчетливо, я смотрю на девушку в белой блузке с жабо, играющую Шумана, — худенькая, темноволосая, со страстным ртом, она подпевает сама себе — ла-ла-ла, — не давая пальцам сфальшивить. Зажженные свечи, освещающие желтым светом ноты на пюпитре, при закатном солнце кажутся зловещими. Что все Рихтеры мира… музыкой была наша встреча, мои двадцать один год, форма синего сукна с портупеей и красно-зеленым аксельбантом; нежданным безумием — молчание пушек (волею случая на этот раз мы обыграли смерть, без устали хохотавшую их громовыми раскатами); на продавленной софе с вышитыми подушками лежит рядом со мной книга, я вижу ее белую с голубым, под мрамор, картонную обложку и надпись:

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
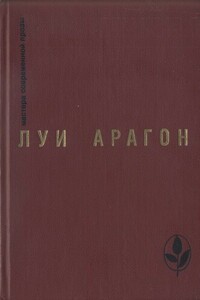
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
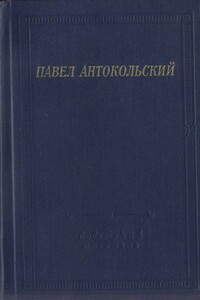
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

