Гибель всерьез - [73]
— Конечно вправду, Альфред, — подтвердил Антоан и, тут же спохватившись, прибавил: — Ну согласись, не мог же я сказать: конечно вправду, Яго, признайся, это же ни в какие ворота… Так вот, еще раз сначала и очень коротко: Саксон Грамматик рассказывает…
Эрик, именуемый Добрым, в 1095 году стал королем Дании после трех своих сводных братьев, последним из которых был король-Голод, Олаф Гюнгер, незаконнорожденный сын Свенда Естридсена; Олафу понадобилось не много времени, чтобы заслужить свое прозвище, свидетельствующее о благодарности народа за те изобильные жатвы, которыми радовал их конец века. Что поделать — тиранами называют государей, при которых мороз и град морят подданных голодом, зато их преемники наслаждаются любовью малых сих, потому что тощих коров неукоснительно сменяют тучные. Таков порядок не в одной только Дании. Эрик царствовал шесть лет, что говорит о нем как об истинном мудреце, дорожившем своим прозванием, поскольку известно: годы процветания, равно как и годы бедствий, меряются числом семь. Умер Эрик Добрый тоже как нельзя более вовремя. Сама судьба позаботилась, чтобы в истории он остался Добрым, и позаботилась весьма необыкновенным образом, об этом-то я и хочу вам рассказать, ведь все остальное неважно; кому, например, кроме разве гробовщика, который сбивал ему гроб, важно знать, какого он был роста, хотя известно, что король был очень высоким и, отправляясь в Иерусалим, решил, дабы избежать любопытства и насмешек, окружить себя такими же великанами, чтобы сойти среди греков, византийцев, франков и мало ли еще кого за обыкновенного, среднего роста датчанина.
Итак, дело было году в 1102; предыдущим летом Эрик подписал со шведами и норвежцами мир, который потом назовут «Датским»; война окончилась, и король Дании, вернувшись к себе в замок, устроил, по обычаю, пир, и случай, который мы называем то судьбой, то Провидением, в зависимости от наших воззрений, захотел, чтобы гостем или сторонним наблюдателем на этом пиру был некий скальд.
— Заметь, — сказал Антоан, — может быть, первый и единственный раз в истории человечества музыкант сыграл… роль фатума…
Я заметил. «И вот, значит»… — продолжал Антоан. Я заметил также нелогичность его «значит» — ведь никакой причинной связи не было. Но промолчал. Потому что иначе мы с Антоаном не добрались бы до конца и этого урока музыки.
— И вот, значит, званый или незваный гость долго занимал внимание общества, толкуя о том, что музыка прекрасна, благотворна и все такое прочее. И тут словно какой-то бес стал его подзуживать, и, не довольствуясь восхвалением светлой силы своего искусства, гость заговорил о таящейся в музыке темной власти и заявил, что звуки, точно так же как словесные заклинания, могут отнять у человека разум. Ему никто не поверил, а он возьми да и скажи, что сам умеет доводить людей до безумия игрой на арфе, и тогда Эрик попросил его показать свое мастерство, потом стал умолять, потом разгневался и принялся грозить непокорному; перед угрозами скальд не устоял, однако предупредил: те, кто будут слушать его, могут впасть в такую жестокую ярость, что лучше бы заранее запереть их всех в зале, лишив оружия, а самых сильных и отважных слуг разместить так, чтобы они не слышали музыки, однако, поняв, что гости обезумели, могли бы вышибить двери, отобрать у музыканта арфу, пока музыка не околдовала и их, а потом разогнать потерявших разум, чтобы те не перебили друг друга. Сказано — сделано.
— Далее, — продолжал Антоан, — Саксон Грамматик описывает игру музыканта и рассказывает, как гостей короля и самого государя охватила безумная жажда убийства, но, по-моему, это чистой воды сочинительство. История же говорит нам следующее: слуги, предупрежденные заранее о том, что гости могут впасть в безумие, услышав шум в праздничной зале, решили, что так и случилось, бросились в замок, вышибая двери, и принялись вязать всех подряд. Эрик же Добрый, то ли околдованный музыкой, то ли оскорбленный в своем королевском достоинстве и вдобавок наделенный недюжинной силой и богатырским ростом, не дался в руки своим холопам, вырвался от них, вбежал в покой, где было сложено оружие, схватил секиру и, обернувшись к преследователям, успел убить четверых, прежде чем остальные справились с ним, накрыв его подушками и навалившись сами. Охваченный раскаянием король дал обет отправиться в Палестину и просить у Господа прощения за пролитую кровь… Избавлю тебя от описания путешествия по Ильмень-озеру, по Днепру до Киева и дальше Черным морем к Византии, где правил тогда император Алексей I Комнин, положивший начало династии, к которой имеет отношение и наш друг Франсис Кремье…
А я избавлю вас от всего, о чем Антоан не счел возможным умолчать, и не стану говорить о Византии и Кипре, об истории королевы Водилы, которая следовала за своим супругом на другом корабле, сохраняя почтительное расстояние, о том, какие ветры надували паруса, подгоняя корабли к древнему острову Афродиты, и действительно ли датский король высадился в одном из древних портов Италиума, или Адалии. Достоверно одно — Эрик заболел, его отвезли в Пафос, который зовется также Баффа или Баффо, и там, в жаркий июльский день, он умер и, как утверждают, был погребен в часовне Хаджия Саломони, став первым, кого не отвергла кипрская земля, имевшая обыкновение на следующую же ночь выбрасывать погребенных в ее лоне. Лишенный разума музыкой, он окончил свои дни там, где рожденная из морской пены Афродита впервые ступила на землю. Пересказ мой не что иное, как уступка автору «Эха», ведь и для него, и для меня главное в этой истории — непостижимая власть музыки, которая изменила течение жизни Эрика, уготовив ему смерть южнее Олимпа, в порту, откуда он так и не отплыл в Святую землю. И я понял: Антоана пленит любая история, любая легенда, если только она так или иначе связана с Кипром, но необычайная судьба Эрика Доброго ему особенно дорога, ибо в сладкогласии арфы, сводившей с ума датских королей, он слышит поющую Омелу, которая берет в плен и его, и меня, и всех перваншерских Кристианов, и всех своих слушателей и меняет судьбу каждого. Уж не вообразил ли он, что земля Афродиты окажет благоволение и нашему безумию и, умиротворенная смертью Эрика Доброго, не отринет и наши недостойные тела? Притча неоднозначна, смысл ее многолик. Нет, Антоан все-таки вплел Кипр в «Эхо», но для нас, одержимых безумцев, этот остров уже не обитель Венеры Киприды, он — форт генерала Отелло; как остро взглядываем мы друг на друга, стоит мелькнуть в нашем разговоре имени Ревнивца; Антоан подхватывает и повторяет его — он следит, как отзовется мое лицо на имя Отелло: вот и сейчас, без всякой связи с предыдущим нашим разговором, он взялся сравнивать исторического Гамлета, Ожье Арденнского, превратившегося в сказочного Хольгера-Датчанина, спящего в эльсинорских подземельях, с Отелло, чей дом — главная достопримечательность Фамагусты, тогда как сам он — всего лишь фантазия, если не Шекспира, то уж точно рассказчика-итальянца… Литературные герои — вымысел, но сила их воздействия — реальность, тут мы с Антоаном не спорим, но похоже, он так настойчиво возвращается к Отелло вовсе не ради того, чтобы уподобить его Вертеру или Растиньяку. Он одержим другим, глаза Антоана открыли мне его безумие: на меня смотрели черные глаза ревности. Антоан даже попытался назвать меня Яго, но запнулся, смутился и отвел глаза. Я вздрогнул, словно бы предчувствуя победу. Теперь мне был нужен только платок, вернее, то, что сыграет его роль, нужна достоверная версия измены Омелы, иными словами, роман, — вымысел, иллюзия, — действенность которой подтвердят ее кровавые последствия. И я почувствовал, что внутри меня глухо сотряслась действительность и все вокруг вывернулось наизнанку: роман перестал быть зеркалом, с помощью которого я постигал мир, — зато зеркало по воле волшебницы-арфы, а возможно, и поющей Омелы, — зеркало, превращающее все вокруг в зыбкие призраки, — заняло место романа, и все, что я видел вокруг, вся моя жизнь и сама действительность тоже, потеряв самостоятельную ценность, стала лишь отражением вымыслов, которых так много уже накопили в своей сокровищнице люди, с давних пор живущие грезами, и вот я уже разом Яго, Вивьен, Вильгельм Мейстер, Чичиков, Ланселот, я сам, Жюльен Сорель, доктор Джекиль, Печорин, Жиль Блаз, Том Джонс, князь Мышкин, Жан из Сентре, Хатклиф или кто только вам угодно: мои самые естественные поступки приобретают обличье безумия, оно все разгорается, я же, поддерживая пламя, швыряю в него охапку снов, так что огонь взметается столбом, разгоняет мрак и показывает мне только тебя, одну тебя, Омела, любовь моя, моя прелесть, мое зеркало.

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
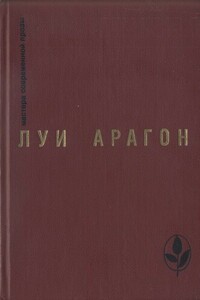
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
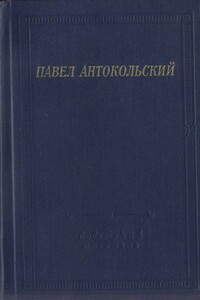
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

