Гибель всерьез - [22]
Порой я сам не понимаю, чего ради еще живу, чего жду от завтрашнего дня, на что надеюсь, и я бы уже давно повесился на первом же попавшемся суку, но меня останавливает страх внушить тебе омерзение своим видом. Только ради того, чтобы избавить тебя от этого зрелища, я остаюсь в живых, но можно ли быть уверенным, что тебя пощадят другие, а ты пощадишь меня и не станешь смотреть на мое лицо, искаженное гримасой смерти, когда настанет мой последний час? А запомниться с такой гримасой на лице не значит ли проиграть, уступить победу всем живущим, самому ничтожному из них? Поэтому больше, чем к смерти, я ревную тебя к жизни без меня. Верно, черви, что станут пожирать мою гниющую плоть, ощутят неистребимую горечь этой ревности. И пусть я стану глиной, летучей пылью… ни земля, ни ветер не уничтожат эту чуму, и хватит одного порыва, чтобы разнести ее на века, отравить все будущее, — так что, если есть на свете пусть не Бог, а хоть какая-нибудь справедливость, прошу вас, кто б вы ни были, вас, кто будет тогда распоряжаться словами, назвать эту стихию не «ревностью», а моим злосчастным именем.
Ибо я сделал бессмертной свою любовь к тебе, и отныне каждый, кого посетит это чувство, кто заболеет сим недугом, увидит твое отражение в зеркале моего имени. И пусть каждый, слышишь, Омела, каждый вслед за мной будет ослеплен тобою так, что перестанет видеть самого себя; пусть обреченным на любовь детям грядущих времен всюду является твой образ: в ручье, в реке, в блестящем лезвии ножа. Он переживет меня, этот образ, и хоть у меня уже не останется ни глаз, ни рук, ни души, я буду ревновать его к каждому живому существу и призывать конец света.
«А где, бишь, мой рассказ несвязный?» — сказано у Пушкина.
«Просто невероятно, — перебила меня Ингеборг, не выслушав даже перевода этой строчки из «Онегина», — до чего у вас одинаковый почерк… и все же, все же хотела бы я знать, кто из вас двоих мне пишет, хотя Антоан не ревнив и мне почему-то кажется, что у того, кто это писал, голубые глаза…»
Трехстворчатое зеркало
I
«А где, бишь, мой рассказ бессвязный?..» Извилистый… Запутанный рассказ… Словно дорога или нить. Но и разматывается он легко. Легко распутывается. Да, где, бишь, мой рассказ, лишенный всяких скреп? Разве только любовь к тебе скрепляет его части. Скольжение теней. Ни связей, ни основы, ни канвы в моем рассказе, он у меня, как говорят, раскованный, но ведь никто не сковывал его? Не лучше ли сказать — не-скованный? Хотя при чем тут вообще оковы? Нет-нет, бессвязный, так верней всего, хотя Омела, возможно, назвала бы его как-нибудь иначе, например беспорядочным. И вдруг в этом хаосе, похожем на городскую свалку: куски труб, старые башмаки, консервные банки, черепки, шлак, утратившее всякий вид старье — как будто вспыхнул в солнечном луче осколок стекла, и этот блеск напомнил мне местами облупившуюся, просвечивающую насквозь амальгаму еще одного зеркала — как странно выглядит сегодня этот выплывший из прошлого предмет, как странна эта воскресающая вместе с ним обыденная жизнь Парижа тех времен, когда ничто не предвещало страшных потрясений, когда слово «монстр» относилось лишь к экспонатам Барнума, химерам да драконам, поскольку никто еще не видел монстров в человеческом облике, с такими добрыми глазами, светлой кожей, к тому же столь чувствительных: при случае достанут фотографию своих детишек, невинных ангелочков.
Все это было давно, тогда я еще не знал никакого Антоана Бестселлера, ни сном ни духом не подозревал, что в моей жизни может появиться женщина, подобная Ингеборг д’Эшер или хотя бы стоящая ее мизинца. Я, то есть Альфред, переживал тогда пору случайных встреч: достаточно было какой-нибудь девушке польститься на меня, чтобы я пришел в восторг и немедленно забыл о предыдущей подруге, устремившись к новой, словно в неведомую страну, желая познать не только ее тело, не только чувственные удовольствия, а весь роман ее жизни; мне было интересно все: ее семья, ее муж или любовник, круг ее друзей и даже работа. Не только физического наслаждения искал я в ее объятиях — я жаждал проникнуть в запретный сад, в иную среду, в иное существование. Каждая малость открывала мне в женщинах нечто неведомое, некую ступень бытия, шаг вверх с той, что была уготована мне от рождения. Или, по крайней мере, в сторону. И прежде всего это касалось физического совершенства, того особого внимания, с которым они относились к своему телу, к нарядам, ко всему, чем окружали себя и к чему приучали меня. Они были чисты, как непрожитый день, прозрачны, как иногда бывают сны. И каждый раз, каждый раз, когда я вспоминаю о своих подругах, я вновь испытываю благодарность и восхищение… вот потому-то, заговорив о них, я увлекаюсь, забываюсь и отступаю от предмета своего рассказа. Но что я говорю! Предмет все тот же, хоть лица разные! Все женщины моей жизни… не так уж длинен этот список… Впрочем, не в этом суть, не о моих похождениях речь, я только хотел сказать, что мне было тогда двадцать два, почти двадцать три года. Я отдыхал в Бретани, на морском берегу, и поджидал девушку, которая должна была вырваться ко мне на несколько дней. Она опаздывала, и я уже ловил себя на том, что заглядывался на встречных женщин: то в ресторане, то на пристани. Хорошим средством от таких соблазнов были морские купания. В ту пору я очень любил плавать, особенно в солнечную и ветреную погоду, когда поднимались высокие волны. Кожа пахнет солью, поблескивают приставшие к телу чешуйки слюды — как хорошо выйти из моря и броситься на песок, какая сладкая истома и упоительная уверенность в себе, когда мимо то и дело проходят, посматривая на тебя, как на любого из лежащих здесь, на пляже, с этакой ленивой небрежностью незнакомые женщины, и стоит чуть пошевельнуться, чтобы задержать эти легкие виденья, но ты остаешься неподвижным, безразличным, и только беззвучный смех щекочет ноздри… они же, незнакомки, скользят мимо. Впрочем, дело, повторяю, не во мне, просто я поджидал в Бретани свою девушку и убивал время, сидя в гостинице, гуляя по дюнам или пропадая на пляже. В тот день, о котором я хочу рассказать, стояла именно такая погода, какую я люблю: яркое солнце, под которым легко не то что загореть, а обуглиться, лежа на белом песке, и высокие волны, целые водяные горы с хлещущими наотмашь пенными гребнями; я нырял в их толщу или вспрыгивал на них, пока они не успели обрушиться. Боже мой, как сладостно укачивают человека объятия моря! Я никого не знал в этом курортном городишке, разве что перебросился парой слов с каким-то щеголеватым юнцом в гостинице, который однажды попросил у меня газету, да раскланивался в ресторане с дамами, обедавшими за соседним столиком. Но не обо мне, не обо мне же речь. Просто в тот день меня унесло далеко в море, и я заметил это только тогда, когда оглянулся и увидел, что головы самых отчаянных пловцов маячат где-то позади; я повернул обратно и не сразу понял, что вместо того, чтобы приближаться к берегу, только отдаляюсь от него. Заработав руками и ногами с удвоенной силой, хотя толку от этого было немного, я решил добраться до западной оконечности бухты, то есть плыть не против течения, а наискось: правда, меня отнесет еще дальше от пляжа, но зато прибьет к тамошнему, пусть скалистому, берегу. Однако я опять увлекся, а суть заключается в том, что я поджидал в Бретани свою девушку и однажды чуть не утонул, уже захлебывался, когда какой-то пловец, издали заметивший, что я выбиваюсь из сил, догнал меня, подхватил и дотянул до того самого каменистого берега. Шатаясь от изнеможения, с ободранной коленкой и болтающейся из стороны в сторону головой, я выбирался из воды, а между тем по уступам скалы, возбужденно размахивая руками, спешили вниз обитатели стоявшего на круче дома — три женщины в развевающихся платьях и один мужчина; все это время они наблюдали сверху за спасательной операцией. Должно быть, я потерял сознание. Очнулся же в постели, в комнате с опущенными жалюзи, сквозь которые пробивался свет, так что пол, потолок и все предметы в комнате были расчерчены полосами; я был раздет догола, и какая-то женщина лет сорока с веснушчатым лицом растирала меня настоем мяты; через открытую дверь из соседней, залитой солнцем комнаты доносились голоса и смех; я встретился глазами с женщиной и покраснел, а она воскликнула на диковинной смеси итальянского с английским, что я жив, потому что покраснел. «And why did he blush?»

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
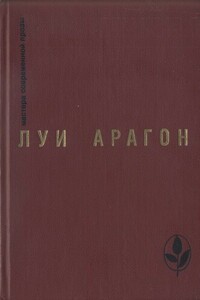
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
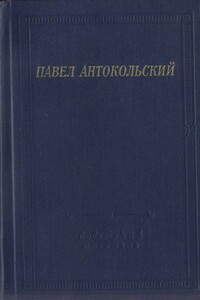
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

