Гибель всерьез - [21]
Кто это говорит, спросите вы, я или он, Антоан или его двойник, какое лицо подразумевается: первое или третье, актер или зритель, действующий или пишущий, тот, кто не отражается в зеркале, или тот, кто решил собою заменить ему зеркало, и как различить, кто из них как относится к той же Омеле, кто ее возлюбленный: он или я, как узнать, где настоящий Созий[24]? По манере чихать? Или сопеть? Да разве сам я знаю, кто я такой: у меня не брали отпечатков пальцев, не подвергали экспертизе душу, и вообще все это не больше, чем капля чернил, каракули на бумаге, а графологам я не верю: буквы всегда анонимны, что бы там ни толковали о штрихах, петельках и прочем! Можно ли быть уверенным в подлинности самого почерка? Сколько бы эксперт ни изучал рукопись, он может извлечь из нее только сведения о переписчике. Это письмо к тебе, Омела, — лишь игра воображения, но кто и что воображает, неизвестно. Однако такая путаница не новость. Возьми того же Пушкина: в главе, которая называется «Путешествие Онегина», это бросается в глаза. Александра Сергеевича невозможно отличить от его героя, поэт говорит «я» — и повествование продолжается от его лица; потом, вдруг спохватившись, он изворачивается и говорит, что это Онегин проезжал теми же местами спустя три года и вспомнил о нем. Однако тут же (Я жил тогда в Одессе пыльной…) Онегин забыт напрочь, и не Евгений, а сам Пушкин глотает черноморских устриц. В этих фрагментах, которые автор (из цензурных соображений) не включил в основной текст, но все же пожелал поместить в приложении к роману «Евгений Онегин», пропали даром все риторические ухищрения, все старания отделить автора от героя и убедить нас в том, что оригинал и образ не одно и то же, — а все благодаря этой неразберихе. И хотя Александр прощается с Евгением в последних строках романа, но называет его «мой спутник странный», как будто говорит о собственной тени. «The Travelling Companion»[25] — так должен был называться и рассказ Р. Л. Стивенсона, который, он порвал, написав вместо него «Странную историю доктора Джекиля и мистера Хайда»… Чуть дальше Пушкин пишет, что, принимаясь за роман, не ясно различал его даль «сквозь магический кристалл». Прости же мне, Омела, что и я пишу тебе так же путано.
— написал Александр Сергеевич в последних строках «Евгения Онегина». Я не достиг такого блаженства, ведь ясно же, что под словом «роман» Пушкин разумеет не что иное, как свою жизнь. Я же не могу оторваться от своей жизни, как от тени — последнее совсем нетрудно при посредстве дьявола; так же легко я мог бы затуманить свое изображение, если бы оно у меня было, но конец моего романа будет и моим концом, и он испустит дух не раньше, чем доконает меня, как говорят о цепляющемся за жизнь безнадежном больном. Ты моя жизнь и мой роман, ты это знаешь, так прости меня за это мелькание теней и света в магическом кристалле, он нужен мне, чтоб разгадать тебя, прости за то, что так ревниво тебя я оплетаю сетью света и теней. Возможно, я все еще плохо различаю даль нашего романа, но ему, как нашей жизни, положен предел. Так пойми же: затевая эту сложную игру отражений, я отчаянно вырываю тебя у времени, подхватываю тебя на руки и из последних сил поднимаю над волнами в час крушения, и не все ли равно в этот час, как будут называть жертву; пойми, пойми же, что больше, чем к самой затаенной твоей мысли, я ревную, бешено ревную тебя к смерти.
Но я не завершил свою речь в защиту того боксера; представь себе заключительную сцену драмы: огромный спортивный зал, украшенный переплетением громоздких стальных балок — модная в свое время архитектура, — трибуны, заполненные свистящими и орущими болельщиками-янки, ринг опустел, в углах валяются полотенца и губки; слепящий, жесткий свет прожекторов; победителя, забрызганного кровью, похожего на лопнувшую смокву, несет восторженная толпа, а он спешит прочь от этого рева и грохота, он — свергнутый король; для всех, кто аплодировал ему, когда он шел в гору, теперь он только раб, поверженный во прах, их взоры привлекает новый кумир, чье имя уже прогремело по радио на весь мир; представь же, каково ему, побежденному; а навстречу ты, с безмятежным видом — притворное, из жалости, спокойствие, — каково ему, отяжелевшему от ударов, выбитому из жизни, ему, чья душа рвется вон из униженного тела, словно стон, — а навстречу ты, и ты отлично видишь его боль, и ты готова принять ее, как может только женщина, готова одарить его неиссякаемой нежностью и дать ему убежище, такое, в каком мужчина может спрятаться так надежно, как не спрячешь лицо в ладонях, забыться в ласках и рыданьях, — взгляни же, как одинок он на этом пути к тебе, как исходит потом его утомленное тело, взгляни, вот тот, кто целую жизнь, в каждом бою, убивал свое сомнение в твоей любви, оно же воскресало вновь и вновь, кто целую жизнь кулаками доказывал твою нелживость, целую жизнь, которую вы с ним делили на двоих… как смог он спрятать пистолет, в какой карман, в какую складку, так что никто его не увидел, а впрочем, никому и дела не было, что он там несет: кто в этом чествовании нового героя стал бы думать, почему он, бывший чемпион, не продевает рук в рукава полосатого халата, который ты ему купила где-то на другом конце света… никто, кроме тебя, не слышал выстрела, не видел вспышки, ты закричишь, но сколько б ни кричала, твой крик утонет в шумной тризне его славы, и восходящая звезда затмит все взоры, и ты, любовь моя, упадешь на колени пред бездной, успев, быть может, подумать, что, значит, да, он предполагал такой исход, если прятал в кармане халата оружие, и, значит, всегда, за годом год, терзал его этот страх, пронизывая каждый миг его жизни, и каждый бой был не просто игрой, а борьбой на краю смерти. Выходит, еще вчера, когда, казалось, он заботился только о хорошей форме, о силе удара, о приемах защиты и нападения, его томила невысказанная мысль, преследовало наважденье, которое заставило его вложить в карман холодный черный предмет; выходит, сегодня утром, днем и вот только что, в машине, когда он так спокойно разговаривал со своим импресарио… сейчас уже не вспомнить последних слов, которые он бросил тебе перед выходом на ринг, тебе еще послышалось в них что-то странное… нет, не вспомнить… почему, почему не вникаем мы в каждое слово, сказанное любящим, ведь каждое из них весомо, и нет такого, будто бы пустейшего, которое бы не было жизненно важным — дорожи каждым! Вот так же люди говорят во сне: мы спим и вовсе не намереваемся выкладывать всю подноготную, но правда сама проступает на губах, как пена, пена жизни; однако полно, о чем я говорю, какая-то давняя история, халат, боксер, его жена — все это выдумки! Это тебя, Омела, я вижу с возлюбленным, которого я сам же тебе дал, который перестал быть моим отражением; это в твоих глазах я читаю отвращение к тому, во что я сам же превратил себя; этим страшным месивом из крови и мозга останусь я в твоей памяти… Решиться на такое мне было бы труднее, чем Отелло решиться убить Дездемону, ведь это значило бы жестоко вычеркнуть себя из твоей памяти, остаться в ней до конца твоей жизни жутким кровавым кошмаром. Стереть единым махом образ, который, смею думать, все же был там прежде, заменить его последним отражением: бездыханное тело со страшным, размозженным лицом у твоих ног.

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
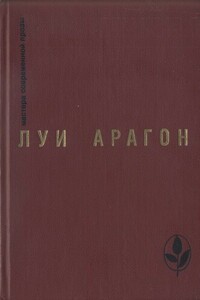
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
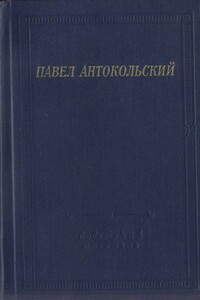
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

