Гибель всерьез - [115]
А что, если и мне надеть черные очки? Спрятать глаза, да и мысли? Но, с другой стороны, без очков я не вызываю подозрений, а так любой решит: он хочет Что-то скрыть. Ну вот, вы скажете, то хочет, то, подумавши, откажется. Если бы, скажете вы, он так же вдумчиво отнесся к тому бедняге, как к очкам… Но то-то и оно: бедняга послужил уроком, которым я воспользовался в случае с очками. Глядя людям в лицо открыто и прямо, куда легче врать. То есть не то что легче врать, мне это так и так нетрудно, а легче поверить, когда глаза не прячут за дымчатыми стеклами, — успех лжи обеспечивают не только слова, но и невинный вид и честный, ясный взгляд.
Тут убийца встревожился. Он же еще не читал газет. Он не знает, как выглядит его преступление со стороны: заурядный ночной грабеж, налет бродяги, драма любви и ревности, профессиональные разборки?.. Все случилось так быстро. Убиваешь и не знаешь, что делаешь, как классифицируют твои действия потом, без тебя. Что, в общем, досадно. Общепринятая версия требует особой манеры поведения. Чтобы свести эту версию на нет, не дать ей в себе укорениться.
Все произошло так внезапно, действия были настолько машинальны, что убийца почувствовал себя убийцей не перед жертвой, а вдалеке от нее, убежав, запутав следы, и теперь никакими силами не мог восстановить обстоятельств: обстановки, точного места, где произошло убийство. Не мог представить себе покойника. И уж тем более вспомнить его живым. Кем он был? До чего же неловко не знать, кого ты убил.
Не знать почему — еще куда ни шло. Теперь это уже, в общем, безразлично. Но где?.. Он смутно видел какие-то дома, улицу со множеством магазинчиков: обувь, готовое платье, дешевая распродажа тканей, усталая толпа, прохожие с сумками, продавцы, расхваливающие товар. Нет, это все было до. Может, стычка произошла у стойки кафе, где он пил лимонад? Тут кое-что уже видится совершенно отчетливо, затычка бутылки, например, пробкой ее не назовешь, металлическая, с резными краями, — крышка, вот именно — крышка, которая отскочила. Нет, все же нет. Там он и словом ни с кем не перемолвился: у стойки гомонили грузчики, не с ними же болтать. И не с мальчишками-итальянцами, которые над чем-то хохотали.
Не помнить лица человека, которого убил, — все равно что пьяным зачать ребенка. Он пойдет по жизни твоим портретом, словно спрашивая окружающих: я вам никого не напоминаю?
Улочка, идущая под гору, старые дома, тротуар со ступеньками. Прохожих мало, и все-таки не настолько, чтобы прямо у них на глазах взять да и убить. Кажется, я даже припоминаю слева арку, что-то вроде ворот, откуда когда-то выезжали кареты, и выгороженную на первом этаже привратницкую с окном в подворотню, а может, в подворотню смотрит антресоль какой-то лавчонки? В глубине — круглый двор и еще арки. Но все произошло не во дворе. Во двор я не заходил. Брел вдоль почерневших фасадов. Долго им еще дожидаться чистки!
Не просто было найти себя в газетах, то есть найти своего покойника. Наконец Эдип — для удобства мы будем называть нашего героя Эдипом, хотя он не спал со своей матерью и не убивал своего отца (— Вы уверены? А может, как раз своего отца он и убил? — Не говорите чушь!) — вроде бы признал одну жертву своей и два или даже три дня жадно прочитывал всю прессу, в особенности вечернюю; душа и совесть его обрели покой: неизвестный получил имя, статус, биографию. Сам он, конечно, никогда бы не додумался, что покойный был югослав. Хотя почему бы и нет? Югослава можно убить точно так же, как любого другого. Эдип готов был уже совершить глупость и отправиться на место преступления собственной персоной, так ему не терпелось восстановить окружающую обстановку, тем более что название улицы, на которой нашли труп, было ему незнакомо. Ну и что? Разве всегда смотришь, как называется улица, по которой идешь… да, но он не просто шел, он там убил человека… Оно, конечно, но… Лично он не посмотрел. И тут — на тебе! — признание какой-то студенточки: ей, видите ли, гадалка нагадала, что любовник собирается ее бросить… Э-э, да девица не в себе, что она несет! А недурна, судя по фотографии.
И мне пришлось искать другого покойника. Опять пересматривать газеты за все прошлые дни. Недаром я споткнулся на названии улицы — Сюрмелэн, она же где-то в двадцатом округе, а я вылез из такси на набережной у моста и ехал не так долго — двадцатый не подходит. По времени не получается. Оставался единственный подходящий покойник, его задушили, и руки душителя были, как у гориллы, написано в «Паризьен». Вечно эти журналисты преувеличивают. Глядите сами: руки как руки, при чем тут горилла! Хотя мне-то казалось, что я приставлял револьвер туда, где должно быть сердце, но у гадалки я точно не был, да и револьвера у меня нет. Как же все-таки это случилось? Может, я и впрямь его придушил, югослава-то моего? Да нет, я все перепутал: югослава убила студентка, и к гадалке ходила она.
Правда, я иногда действительно задумывался, каково это задушить человека: сомкнуть руки на шее и давить. Так что, может, и не вранье, что я своего голубчика, — когда мне в голову залетело, то есть еще прежде чем успело залететь, — схватил за горло. Тогда понятно, почему нет револьвера. Револьвер-то меня и смущал больше всего: никак я не мог вспомнить, каким образом от него избавился… В общем, видимо, так и есть… Я душитель.

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
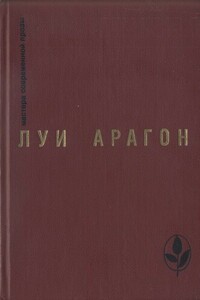
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
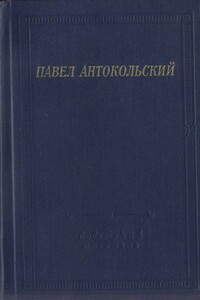
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

