Гибель всерьез - [113]
Омела, обнажив прием… Что ж, выскажемся до конца. Омела, обнажив прием, обрекла на гибель одного из нас: Антоана или меня. Почему? Не знаю. Может, она сама не понимает. Но Антоана или меня? Додумаем до конца… Я выбирал слишком долго. Выбора больше нет. Омела потребовала. Я умываю руки. Фу, как вульгарно. Во всех убийствах из-за любви убийца перекладывает вину за собственное преступление на ту, кого любит, — это она, она! Она так захотела, что же мне оставалось?! Она, например, рассмеялась или отвернулась, и мне ничего не оставалось, как убить, убить, убить. Отвечает ли человек за то, что сделался топором, топором и только? Зачем та женщина, что держала топор, уронила его по небрежности?..
Зеркало повернулось, окончательно повернулось — и в нем кровь… Сколько бы я ни колебался… как бы ни пытался отогнать, как мух, неотвязные мысли, они возвращаются и роятся вокруг меня. Я переполнен их жужжаньем. Они заслонили от меня все. Я заблудился в этом гудящем лабиринте. Не слышу ничего другого. Глух ко всему, кроме биенья крови, толчков безжалостного сердца. Он или я. Я или Антоан. И в зеркале передо мной — лишь Антоан, невинный Антоан. Жертва. Глупо убийце раскисать перед собственной жертвой. Но жертва так на него похожа — такой же человек, из плоти и из крови… не надо слишком пристально смотреть — не то увидишь собственные глаза, почувствуешь свое дыхание, биение своего сердца. Какой же я трус!
Чтоб найти силу убить — силу руки и силу духа, — что надо сделать? Как нанести удар собственному отражению? Волнуется моя разделенная надвое кровь… Антоан, брат мой, мое подобие… Я боюсь удара, который рассечет нас, словно близнецов, родившихся с одним сердцем, нож вонзается в анастомоз души, больно ли было ногам Петера Шлемиля, когда дьявол отделил от них его собственную тень. Мне нужно восстановить себя против себя другого, озлобиться, напитать свою ненависть, отыскать различия. И мало-помалу, подспудно — слишком живо еще во мне эхо «Карнавала», музыки, не знающей жалости, властные аккорды, жестокая точность Рихтера — мной овладевает мысль: в следующем произведении Антоана найду я оправдание моего поступка, он перестанет быть братоубийством, я окончательно удостоверюсь, что Антоан — совсем не я, что он другой, он — дикий зверь, с которым надо покончить, что в любом случае он мне чужд, да-да, постепенно стал чужим, возможно, потому что писал и жил, все больше отделяясь от меня и обретая собственную личность… он человек другой породы, мы уроженцы двух воюющих стран, и, значит, у меня есть право убить его, больше того, это стало моим долгом, неважно как, не право, а долг, убить свирепо, хмелея от его боли, осыпать яростными ударами, забить, изорвать, уничтожить. Тот, кого я убиваю, должен дорого заплатить за то, что он чужой, иной, чем я, что он уже не я.
Что я говорю? О чем думаю? Где найти прощение или подтверждение? Красное пятно тихонько расплывается во мне: дозревает идея. Третья история. Из красной папки. Она возмутила меня своим вымученным фальшивым ёрничеством и, главное, открыла глаза на то, как далеко развели нас с Антоаном прожитые годы. Итак, «Эдип». Я перечитаю «Эдипа» и найду причину для смертоубийства.
А из соседней комнаты вдруг хлынул поток, дерзким вызовом — звуки электропианино и голос, удивительно напоминающий перезвон хрустальных колокольчиков. Слова:
исчезают, драма не нуждается в смысле, поет душа, избавившаяся от оков, от стихоплетства, оперы, от Лео Делиба, от всего на свете, звук все выше, выше диапазон женственности, озарение, не нуждающееся в словах торжество гармонии… О, Боже! Поет ли Дездемона или Лакмэ — тебе, тебе одной, Омела, открываются выси, недоступные мне подобным… выси, которых я могу коснуться лишь с твоею помощью.
Эдип
Die Leiden scheinen so, die Œdipus getragen, als wie ein armer Mann klagt, dasz ihm etwas fehle…
Hölderlin[150]
Сделалось прежде, чем было помыслено. Человек погиб до того, как его решили убить. И жизнь убийцы переменилась, все в ней приобрело другой смысл, возникло иное будущее, как будто текст переписали заново.
Зачем идти утром на службу? Чему служат конторские бумаги? Иной стала подоплека каждого шага. Общение с людьми затаило зерно абсурда. В любой фразе мерцал тайный смысл, все они стали маской, напоказ одетым платьем, способом затаиться. Слово утратило присущую ему природу, оно не сообщало, а скрывало.
Некоторые человеческие чувства явно устарели. Конечно, молниеносная смерть появилась не вчера, так же как стремление убийцы замаскироваться. Но что-то в нашей душе уже не соответствует ритму пеших и даже велосипедных прогулок. Привычка завтракать в Нью-Йорке и сейчас же возвращаться обратно отражает современную стремительность ума. При этом главное не скорость, а медлительность, с которой мы осознаем свершившуюся перемену: жизнь уподобилась счетной машине, человек получает готовый результат, прежде чем успевает выписать цифры и подвести черту.
Происходило же все в серо-бежевом городе, куда внезапно нагрянула весна, ошеломляя яркими красками, необъятным небесным сводом, синими тенями на улицах. Одежда показалась лишней, на авансцену вышли женщины, работяги сбросили грубые свитера, и в новой Кане Галилейской множились и множились парочки. Какие только огни не играли в глазах, в витринах, на крышах. Полыхали новые рекламы, бесстыдно ратуя за весну. Все до одного прохожие казались беззаботными туристами. Нет больше смысла таить от вас, что происходило все в Париже.

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
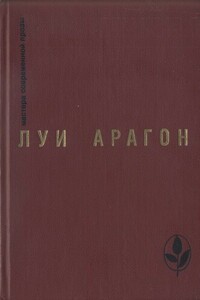
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
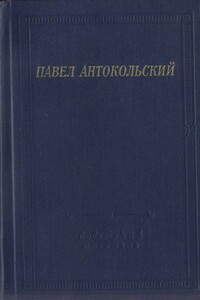
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

