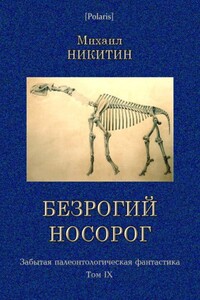Цыплячий выводок громко зацвенькал под окном в ответ.
— Не слышит старик, — сказал матрос, стоявший возле жены.
Тут, в правлении, много людей собралось сегодня.
Харлаша остановился на обрыве, к которому подбегала сельская улица. Он стоял лицом к морю... Смотрел на волны или просто грел в лучах солнца старые глаза, прикрыв их веками.
Море сверкало, как жестяное; пробеги — загремит. Чайки мерцали над ним.
— Совсем он съежился, — сказала про Харлашу Надя.
Он носил теперь вытертую кожаную ушанку, овчинную тужурку с коричневыми клочьями точно бы прокуренного меха, тяжелые, в непоправимых морщинах сапоги.
Хорошо было ему стоять так, у моря. Край здесь ветреный — телеграфные столбы и те накренились, а сегодня тихо, ясно.
Вот он повернулся, пошел по улице, мимо ржавых после дождя деревьев.
— Сыну его всем миром писать надо, — сказала Надя.
— Я конверт с адресом прихватил, — ответил Карпов. — Да ведь тут вопрос, как писать, каким он приедет, чтобы старичка не обидеть.
— Писать — пустое дело, — вмешался в их разговор матрос. — Я скатаю туда, я его привезу, какого надо, можете не сомневаться.
Надя, помедлив, добавила:
— Пусть увидит, что его отец давно с патефоном. Харлаша!
На этот раз старик услышал, улыбнулся ей, вошел в дом.
Пластинки в коробке были разные, и чуть ли не все их проиграли старику. Тут было два симфонических концерта, бодрая песенка «Веселый день», арии, частушки, трио баянистов и, наконец, два романса под гитару. Харлаша слушал, вздернув голову, поджав губы. И пластинки матрос менял тихонько, чтобы не мешать ему. Гости с Опасного мыса сидели радостные, улыбались.
Наконец старик встал.
— Хорошая музыка, — сказал он с легким поклоном и пошел к двери, натягивая на ходу треух.
— А патефон? — зычно спросил Карпов.
— Какой патефон? — ответил Харлаша. — Чегой-то вы? Не надо ничего. Зачем? Не возьму. — Он вышел и старательно закрыл за собой дверь.
Матрос опустил малиновую крышку патефона.
— Опять ошибку дали? — сердито спросил Карпов. — Ушел!
Может, Харлаша считал, что за сделанное им не берут подарка.
Может, так загордился, что отказывался от людского добра.
А может, больше всего на свете боялся, как бы у него не отняли ожидания.