Фрагменты и мелодии. Прогулки с истиной и без - [6]
27.
О ПРАВИЛАХ ИГРЫ. Нет сомнений – следует честно играть с Истиной в ту игру, в которую она играет, и в которую заставляет играть и нас. Ведь она всегда говорит одно и то же: если ты последуешь вслед за мной, то легко сможешь достигнуть подлинного и последнего удовлетворения, ибо только я – исполнительница всех надежд, оставляющая за спиной все сомнения. – Что ж! условие кажется подходящим. Примем его. Впрочем, позаботимся и о своих интересах: не станем уподобляться тем, кто принимает на веру все подряд, рискуя попасть впросак. Ведь человек, который препоручил Истине и себя, и свою судьбу, теряет право выбирать: теперь он должен безропотно идти туда, куда его ведут, и останавливаться там, где остановился его проводник. Но тот, кто заранее обговорил условия, кто, стало быть, ничем не связан, – вот кто действительно играет до конца. Пусть воспользуется он тем единственным видом оружия, которое у него всегда под рукой, – пусть спросит, когда придет время вопрошать: «с какой стати?» С какой стати то или это? То, что внизу, и что наверху? То, что последнее, и то, что первое? При этом, он должен только честно выполнять правила игры: если он действительно удовлетворен, он должен остановиться там, где ему укажут. В противном случае, эта самоуверенная особа, боюсь, близка к проигрышу. Рано или поздно она выйдет из себя, и на твое очередное «с какой стати?» отрежет, скаля зубы: sic et non aliter.
Тогда с чистой совестью мы можем указать ей на дверь.
Впрочем, случается, и довольно часто, что Истина сразу начинает знакомство с нами с этого не терпящего возражения «non aliter». В этом случае мы вынуждены признать, что она, по крайней мере, поступает честно.
28.
ВРЕМЯ УЖИНА.
– Все происходит, как должно – говорит философия, корчась на раскаленной сковородке от боли.
– Познание – это свобода, а Истина – это венец послушания, – продолжает она развивать эту тему, разевая рот и пуча глаза.
– Подчиняться, чтобы знать и знать, чтобы подчиняться, – именно таково то священное колесо, за которым мы следуем, вознося ему свои молитвы и хвалу… Не понятно только, отчего вы сами не хотите поскорее занять место рядом со мной? Разве мой пример неубедителен?
Отчего мы не хотим занять место рядом? Глупый вопрос! Да оттого, что у нас совсем другая задача: сесть поскорее за стол и повязать салфетки.
Не желаете ли этот аппетитный кусочек Аристотеля? А это чудное филе из Лао-дзы? Салат из Плотина, приправленный поздними схоластами? Или, может быть, зажаренный в орехах хвост Спинозы? Или бульон из Фихте?
Конечно, нам немного жаль этих плясунов на сковородке. Но ведь мы так голодны! К тому же пришло, наконец, и наше время: время ужина.
29.
Еще совсем недавно мы бежали от мира, ускользая от его ловушек и не обращая внимания на его приманки. На горных ли тропах или в лесном полумраке, мы сознавали себя потомственными нищими, чей род так же древен, как и эта земля. Тогда в моем владении находилась лишь эта кружащая голову свобода, да недосягаемый горизонт, который казался более реальным, чем уходящая в его сторону дорога. Теперь все изменилось. Мир, словно блудный сын, постучал в мои двери. Он вошел и сел в углу, ибо его путь окончен. – Что принес он мне в дар? – Похоже, только самого себя. – Много это или мало? – Ну, это-то, как правило, зависит от тех весов, на которых вы собираетесь взвешивать. – Так может, все дело в том, что мы сами повернули назад, отказавшись от бегства и признав очевидную бессмысленность бунта? Не смирились ли мы с неизбежным? – Разумеется, нет. Я ведь не сказал: «мы возвратились туда, откуда бежали», но – «мир переступил мой порог»: он, а не я вернулся, склонив голову и протягивая мне свои ладони. «Неизбежное» же – это только одно из многих давно умерших слов, словно сухие листья, устилающие мой путь.
Мир вернулся, – это значит: мы стали другими – он и я.
Да не победа ли это?
Довольно!.. Есть вопросы, утратившие смысл.
Мир вернулся – нужны ли еще слова?..
30.
– Так путь окончен? – Я бы этого не сказал. – Он только начинается? – И этого я не говорил. – Так значит – мы где-то посередине? – Не уверен, что это действительно что-нибудь значит. Смею заметить лишь одно: если вопросы утратили свой смысл, следует изменить всю прежнюю систему измерений.
31.
ДВА РОДА ПРИНУЖДЕНИЯ. Талант, а тем более, гений, всегда действуют насилием, принуждая соглашаться с собой, невзирая на то, хотим мы того или нет. Скажут, что талант и гений принуждают только в силу своей причастности к Истине. Похоже на правду, но неправда. Истина – Истиной, а гений, – сколько бы ни был он глубоко порабощен Истиной, – все же всегда представляет нечто большее, чем простой рупор ее. Пожалуй, можно даже сказать, что он и вовсе не имеет к Истине никакого отношения. Сколько бы он ни клялся ее именем и как бы ни спешил уверить нас, что занят только тем, что творит ее волю, все это остается только пустыми клятвами и словами. Правда, есть все же нечто, что и в самом деле наводит нас на мысль об Истине, тогда когда мы слышим его голос. Это – само принуждение, с помощью которого гений заставляет нас соглашаться с собой. К нему вполне уместно отнести сказанное Декартом: «Принудительная сила доказательства заключается в том, что делает необходимым убеждения». Принудительная сила – исходит от гения; убеждения, от которых уже невозможно освободиться в силу их необходимости – удел тех, кто решил прислушаться к его голосу. Сам гений, разумеется, никогда в этом не признается. Он будет оправдывать свою власть, ссылаясь на Истину, добро, справедливость и красоту, перед которыми должны склоняться не только он, но и все без исключения, от мала до велика. Похоже, что он и сам верит в это. Однако сколько бы он ни насиловал нас во имя Истины и в какие бы мышеловки ни манил, рано или поздно мы начинаем догадываться, что в действительности он принуждает нас совсем ни к тому, чтобы мы признали власть Истины. Он принуждает нас совсем к другому: признать его собственную свободу и его собственное право владеть этой свободой, как ему заблагорассудится, да ведь, пожалуй, и ничего больше! Отчего гений говорит не от своего собственного имени, а всегда отсылает нас к Истине, – ответ на этот вопрос сомнений не вызывает. Гений так же слаб, как и все мы, и он так же нуждается в защите, как и каждый из нас. Но что, в конце концов, значит эта формальная уступка той реальной власти и реальной свободе, которые ему достаются? Очевидно, что для многих это принуждение окажется в тысячу раз невыносимее, чем, если бы гений действительно принуждал нас к тому, что требует Истина. Согласиться с Истиной – еще куда ни шло; в этом случае не так стыдно признать, что наши убеждения нисколько не принадлежат нам самим, ибо мы избрали их не свободно, но в силу принуждения того, что мы зовем Истиной. Но согласиться с чужой свободой? Вряд ли у кого достанет на это сил. И, тем не менее, приходится, вероятно, соглашаться: всякий гений есть, прежде всего, гений навязывания самого себя всему остальному миру – и вопреки этому миру и, скорее всего, вопреки и самой Истине. – И все же не будем унывать. Попробуем утешиться тем, что тот, кто навязывает нам свою свободу, невольно заставляет нас обратить внимание на свободу, которой, быть может, владеет каждый из нас. Если это так, то, пожалуй, следует быть благодарным за это принуждение; несмотря на смертельную проблематичность этого «быть может», оно все же обещает нам кое-какие возможности, пусть они и кажутся нам крайне сомнительными и малоправдоподобными. По мне уж лучше эта неправдоподобность, чем не вызывающие никаких сомнений требования Истины. К тому же, нелишним будет напомнить, что принуждения, к которым прибегает Истина – совсем иного рода. Она вбивает нас по плечи в землю и ломает нам шейные позвонки. – Разумеется, я не забыл: при этом она стремится сохранить среди нас неукоснительное равенство.

"Современная отечественная драматургия предстает особой формой «новой искренности», говорением-внутри-себя-и-только-о-себе; любая метафора оборачивается здесь внутрь, но не вовне субъекта. При всех удачах этого направления, оно очень ограничено. Редчайшее исключение на этом фоне – пьесы Константина Поповского, насыщенные интеллектуальной рефлексией, отсылающие к культурной памяти, построенные на парадоксе и притче, связанные с центральными архетипами мирового наследия". Данила Давыдов, литературовед, редактор, литературный критик.
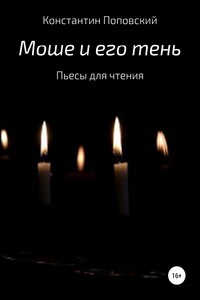
"Пьесы Константина Поповского – явление весьма своеобразное. Мир, населенный библейскими, мифологическими, переосмысленными литературными персонажами, окруженными вымышленными автором фигурами, существует по законам сна – всё знакомо и в то же время – неузнаваемо… Парадоксальное развитие действия и мысли заставляют читателя напряженно вдумываться в смысл происходящего, и автор, как Вергилий, ведет его по этому загадочному миру."Яков Гордин.

Роман «Мозес» рассказывает об одном дне немецкой психоневрологической клиники в Иерусалиме. В реальном времени роман занимает всего один день – от последнего утреннего сна главного героя до вечернего празднования торжественного 25-летия этой клиники, сопряженного с веселыми и не слишком событиями и происшествиями. При этом форма романа, которую автор определяет как сны, позволяет ему довольно свободно обращаться с материалом, перенося читателя то в прошлое, то в будущее, населяя пространство романа всем известными персонажами – например, Моисеем, императором Николаем или юным и вечно голодным Адольфом, которого дедушка одного из героев встретил в Вене в 1912 году.

Патерик – не совсем обычный жанр, который является частью великой христианской литературы. Это небольшие истории, повествующие о житии и духовных подвигах монахов. И они всегда серьезны. Такова традиция. Но есть и другая – это традиция смеха и веселья. Она не критикует, но пытается понять, не оскорбляет, но радует и веселит. Но главное – не это. Эта книга о том, что человек часто принимает за истину то, что истиной не является. И ещё она напоминает нам о том, что истина приходит к тебе в первозданной тишине, которая все еще помнит, как Всемогущий благословил день шестой.

Автор не причисляет себя ни к какой религии, поэтому он легко дает своим героям право голоса, чем они, без зазрения совести и пользуются, оставаясь, при этом, по-прежнему католиками, иудеями или православными, но в глубине души всегда готовыми оставить конфессиональные различия ради Истины. "Фантастическое впечатление от Гамлета Константина Поповского, когда ждешь, как это обернется пародией или фарсом, потому что не может же современный русский пятистопник продлить и выдержать английский времен Елизаветы, времен "Глобуса", авторства Шекспира, но не происходит ни фарса, ни пародии, происходит непредвиденное, потому что русская речь, раздвоившись как язык мудрой змеи, касаясь того и этого берегов, не только никуда не проваливается, но, держась лишь на собственном порыве, образует ещё одну самостоятельную трагедию на тему принца-виттенбергского студента, быть или не быть и флейты-позвоночника, растворяясь в изменяющем сознании читателя до трепетного восторга в финале…" Андрей Тавров.

"По согласному мнению и новых и древних теологов Бога нельзя принудить. Например, Его нельзя принудить услышать наши жалобы и мольбы, тем более, ответить на них…Но разве сущность населяющих Аид, Шеол или Кум теней не суть только плач, только жалоба, только похожая на порыв осеннего ветра мольба? Чем же еще заняты они, эти тени, как ни тем, чтобы принудить Бога услышать их и им ответить? Конечно, они не хуже нас знают, что Бога принудить нельзя. Но не вся ли Вечность у них в запасе?"Константин Поповский "Фрагменты и мелодии".
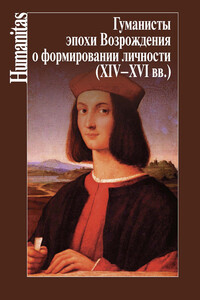
Книга дает возможность проследить становление и развитие взглядов гуманистов Возрождения на человека и его воспитание, составить представление о том, как мыслители эпохи Возрождения оценивали человека, его положение и предназначение в мире, какие пути они предусматривали для его целенаправленного формирования в качестве разносторонне развитой и нравственно ответственной личности. Ряд документов посвящен педагогам, в своей деятельности руководствовавшимся гуманистическими представлениями о человеке.Книга обращена к широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
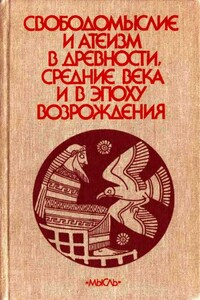
Атеизм стал знаменательным явлением социальной жизни. Его высшая форма — марксистский атеизм — огромное достижение социалистической цивилизации. Современные богословы и буржуазные идеологи пытаются представить атеизм случайным явлением, лишенным исторических корней. В предлагаемой книге дана глубокая и аргументированная критика подобных измышлений, показана история свободомыслия и атеизма, их связь с мировой культурой.

Блез Паскаль принадлежит к тем редким в истории европейской культуры представителям, которые сочетали в своем творческом даровании гений ученого и изобретателя, глубину философской мысли и талант замечательного писателя.В книге особое внимание уделяется систематическому анализу философских взглядов Паскаля (его онтологии, методологии, гносеологии в целом, диалектике, учению о человеке, этике и др.), что в нашей историко-философской науке делается впервые, а также прослеживается его драматичный жизненный путь.Книга рассчитана на преподавателей, аспирантов, студентов и широкий круг читателей, интересующихся историей философии.