Фотографирование и проч. игры - [2]
Зачем мы представляем себе и другим всегда наперед известное будущее — неведомым, ведь все кончается и проходит. Где в самом деле затерялись старые карточки зоологического лото? Где разрисованный бильярд, где медведь? Где серебряный портсигар дяди Вовы, набитый фильтрованными папиросами, никотинная ржавчина на пышных черных усах, резонерские банальности, что умел произносить он (учитель, редактор) так весомо? Где два крепких протеза-бутыли на культях ног (сами ноги, это известно, остались под гусеницей немецкого танка), где застенчивая улыбка его жены-литовки тети Моники, длиннозубой, с никогда не смеявшимися глазами, — вот она держит мужа за рукав, верхняя челюсть далеко выдвинута по нижней, снята в профиль, смотрит на него, будто на своих протезах он может упорхнуть; он же солидно поглядывает в объектив, похожий на среднеевропейского господина времен доктора Фрейда. Одни вещи погибли, другие доживают свой долгий век (чего почти никогда не скажешь о людях нашего времени). Вот старый нелепый альбомчик предреволюционной барышни для вписывания приветов с вензелями Е. В. на черной гофрированной обложке, вот строки полинялых фиолетовых чернил — посвящение на память милой, славной Кате, поэтичному бесенку (и Кате, и бесенку, разумеется, через ять):
И подпись: Отъ Друга Есть и дата, исполненная в манере, знакомой нынче лишь по надгробным надписям: 19 IX/III 17. Отъ Друга, но скажите, где теперь этот самый Друг? В каком месте пути покинула его бренное тело глупая гимназическая бессмертная (на этот раз через е) душа? Свалилось ли оно в окопную лужу уже через пару месяцев после этого безмятежного марта (мятеж, видно, уравновешенную провинцию тогда еще не взволновал); или осталось лежать где-нибудь в сибирских степях или на берегу Сиваша? или чуть позже вышибли из него дух люди в длинных шинелях? или дотащилось-таки оно до эмигрантских парижских бульваров?
Сама баба Катя умерла в Москве не так давно старой девой, и неизвестно, успела ли выполнить дружеский поэтический наказ. Биография ее пестра и туманна: тут и МХТ-второй, и конармия, и книжечка Шершеневича с печатью Краснофлотской Азовской библиотеки, и роковая любовь издания тридцать какого-то года с тщательно законспирированным исходом, и нищета, и пьянство, и достойная долгая старость в чине семейного патриарха (всех ее сестер-смолянок, всех братьев-офицеров не оказалось на земле многими годами раньше), начавшаяся, когда ей было едва больше пятидесяти. В гробу она, очень маленькая, лежала, облагороженная смертью, с лицом настоятельницы монастыря, исполненным святости; где лукавая смешливость ее и умение высоко поднимать густые до старости брови, где уютная лысинка на седой голове, старомодные пушкинские цитаты, казавшиеся ей куда как вольными остроты из Козьмы Пруткова, рассказы о Пасхе в пензенской усадьбе (здесь бывал нищий свойственник Белинский и безутешная бабка Лермонтова), где ее приверженность всему, чему учили верить многократно менявшиеся на ее веку власти? Больше нет всего этого и никогда, по-видимому, уже не будет. Остался лишь ветхий платяной карельской березы шкафчик, чудом снесший многие энергетические кризисы, остались милые серые глаза на дореволюционном коричневом фото, этот вот девичий альбом и найденная после ее смерти в чемоданчике с письмами завернутая в тряпицу и пронесенная с заячьим мужеством сквозь все опасные годы личная печать ее отца, вице-губернатора и предводителя дворянства (монархическая геральдика).
Маленький тиран посапывает за шелковой ширмой, гости говорят вполголоса, они уж не напрягают спин и не поджимают ног, а пьют свежезаваренный (по крайней мере, второй раз) цейлонский чай. Бабушка тоже за столом, хоть и прислушивается к дыханию внука; она и баба Катя говорят о Любови Яровой, на этот предмет, как видно, у них нет одного мнения: друг друга недолюбливают, одна дворянка, другая полька по отцу-шляхтичу, русская по матери из нижегородских мещан, нигилистка предреволюционной выучки, и обе — неслучившиеся актрисы, чему не бывает прощения. Здесь возникают не к месту двое физиков (коллеги отца), их черты совсем расплылись, видны лишь галстуки и мешковатые костюмы, они изображают веселых холостяков, хотя наверняка давно женились за переписыванием конспектов или во время электромеханического практикума на мрачном физическом факультете; один из них курит, другой говорит, понижая голос лишь при пугливых взглядах женщин, они расставляют шахматы. Но проникли они в эту семейную сцену лишь по перебою в механизме камеры, при случайном наложении кадров, и много яснее группа женщин: сестры Муза и Леля, племянницы бабы Кати, двоюродные сестры отца, мать и сбоку единственный мужчина, муж тети Музы, дядя Юра, сухой джентльмен с породистым собачьим лицом, закаленный семью годами учения в Германии (начиная с конца двадцатых) и шестнадцатью (плюсуя к году начала последней войны) пребывания в отдаленных северо-восточных провинциях Союза. Беседуют они, по всей вероятности, о дочери тети Лели, Дюймовочке лет одиннадцати с надменной высокой тоненькой шеей, ровными ножками, поставленными в третью позицию, и непомерно большим бантом в пышных грузинских волосах (ее отец, грузин-архитектор, умрет от инфаркта в период борьбы с архитектурными излишествами, как раз накануне первых заграничных гастролей дочери в составе кордебалета Большого театра), — беседуют о ее артистическом будущем. Она грациозна, говорит тетя Муза, легонькая, как пух, говорит ее муж, она способная и очень работящая, скромно добавляет тетя Леля, а ведь не хотели сразу принимать, вставляет хозяйка, как прекрасно, что в этот день они об этом самом будущем, в котором и зависть, и неудачные браки, и актерский невроз, и ранний маразм, ничего-ничего не знают, — пусть Дюймовочка пока стоит себе на пуантах с надутыми губками и высокомерно нахмуренным лобиком. Перелистывая страницу, обнаруживаем, что кадр перегруппировался: в уголке дядя-Митя-с-бородой демонстрируется тете Ире, вдове второго, погибшего на войне, брата отца, и ее дочери, десятилетней Наташе, нечто генеалогическое. Этот боковой родственник с седой донкихотовской бородой до сих пор стар и румян. Долгие годы разгребая семейные анналы, он составит к нашему времени двадцать семь колен родословного древа (до времени Ивана Грозного) и, похоже, сделается бессмертен. Чудо: дерево, верхушка которого была, казалось бы, начисто срезана, обронила-таки пару веточек, — и те проросли, проросли. Впрочем, тетя Ира-то как раз и не имеет к этим побегам никакого отношения, но рассматривает картинку с улыбкой (чуть позже она выйдет замуж далеко не молодой женщиной за врача-гипнотизера, потом он умрет, умрет). Сколько ни рассматривай фотографии тех лет, заметно, что все эти люди рады после стольких разрознивших их лет побыть вместе. Они правы, история сделала очередной поворот. Супруги в коммунальных квартирах все чаще говорят в своих норах в полный голос; пусть баба Катя сколько угодно делает ужасные глаза, но тетя Муза и тетя Леля вспоминают имена своих братьев вслух, имена, которые долгие годы нельзя было ни произнести, ни припомнить про себя. Слово

Многие из этих рассказов, написанные в те времена, когда об их издании нечего было и думать, автор читал по квартирам и мастерским, срывая аплодисменты литературных дам и мрачных коллег по подпольному письму. Эротическая смелость некоторых из этих текстов была совершенно в новинку. Рассказы и сегодня сохраняют первоначальную свежесть.
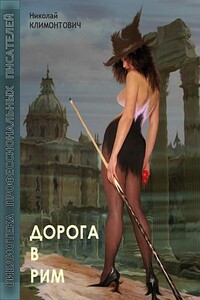
Если бы этот роман был издан в приснопамятную советскую эпоху, то автору несомненно был бы обеспечен успех не меньший, чем у Эдуарда Лимонова с его знаменитым «Это я — Эдичка». Сегодня же эротичностью и даже порнографией уже никого не удивишь. Тем не менее, данное произведение легко выбивается из ряда остро-сексуальных историй, и виной тому блистательное художественное исполнение, которое возвышает и автора, и содержание над низменными реалиями нашего бытия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
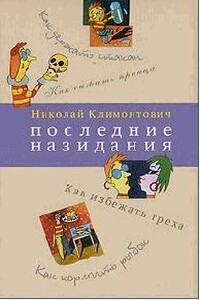
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вокруг «Цветов дальних мест» возникло много шума ещё до их издания. Дело в том, что «Советский писатель», с кем у автора был заключён 25-ти процентный и уже полученный авансовый договор, испугался готовый роман печатать и потому предложил автору заведомо несуразные и невыполнимые доработки. Двадцатисемилетний автор с издевательским требованием не согласился и, придравшись к формальной ошибке, — пропущенному сроку одобрения, — затеял с издательством «Советский писатель» судебную тяжбу, — по тем временам неслыханная дерзость.

Канва повествования — переплетение судеб двух очень разных персонажей, олицетворяющих два полярных способа проживания жизни. По ходу повествования читатель поймет, что перед ним — роман-притча о вдохновении, обогащении и смерти.

Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.

Своими предшественниками Евгений Никитин считает Довлатова, Чапека, Аверченко. По его словам, он не претендует на великую прозу, а хочет радовать людей. «Русский Гулливер» обозначил его текст как «антироман», поскольку, на наш взгляд, общность интонации, героев, последовательная смена экспозиций, ироничских и трагических сцен, превращает книгу из сборника рассказов в нечто большее. Книга читается легко, но заставляет читателя улыбнуться и задуматься, что по нынешним временам уже немало. Книга оформлена рисунками московского поэта и художника Александра Рытова. В книге присутствует нецензурная брань!

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.