Философское мировоззрение Гёте - [45]
Ни о каких «счастливых случайностях» естествоиспытателя Гёте, понятого как оригинальное приложение к Гёте-поэту, не может быть и речи. Что это за «случайность», да еще и «счастливая» впридачу, когда дело идет о создании органологии. Рудольф Штейнер назвал Гёте Галилеем органики, ибо если на заре современной физики мы видим фигуру Галилея, то в руках Гёте первый факел науки о живом. Да, ему принадлежит заслуга отдельных великих открытий, предчувствий, догадок, да, он — прямой предшественник Дарвина и Геккеля, — все это так и должно занять подобающее место в истории наук, — но ограничиваться только этим значит ограничиваться букашками и проглядеть слона. Слон — учение Гёте о типе, занимающем в органическом мире такое же центральное место, какое в неорганической природе занимает первофеномен. Не что Гёте открыл, а как он открывал, — вот вопрос первостепенной важности, прояснением которого мы и займемся.
Юность Гёте совпала с безрадостно бесперспективным периодом в развитии европейской умственной жизни. Антиномический накал рационализма и эмпиризма достигал к тому времени до вспышек подлинного хаоса. В Германии царил плоский догматизм Вольфа и его сторонников, укротивших беспокойные мысли великого Лейбница в пристойно-академическом зверинце мысли. Франция красовалась блистательными энциклопедистами, которым причудилось составлять компендиум мысли еще до действительного пробуждения мысли; «если речь заходила об энциклопедистах — вспоминал впоследствии Гёте, — и мы раскрывали один из томов их грандиозного творения, казалось, что проходишь среди бесчисленных веретен и ткацких станков огромной фабрики, где от непрерывного стука и жужжания, от всех этих смущающих глаз и чувства механизмов, от непостижимости всего многообразного и взаимосвязанного устройства, потребного для изготовления кусочка сукна, тебе становится противен твой собственный сюртук». И одновременно утверждал свои «рукоприкладные» права английский эмпиризм, дразня просвещенные головы скандальным солипсизмом.
Философия и наука брели разобщенными тропами. От понятия сущего не вел никакой путь к конкретным природным фактам, а факты не давали никакой возможности мыслить сущее. Так обстояло дело не только при обращении к миру живой природы, но и в механике. И поскольку у механики были уже достаточно упрочненные права, освященные более чем столетней работой научной мысли, то считали вполне естественным распространять эти права и на органический мир, объясняя живое через механические законы. Кое-чего при этом действительно удавалось добиться; но дело упиралось в чистую номенклатуру органических существ. Наивысших результатов здесь достиг Линней, разработавший грандиозную систему каталогизации растений по принципу деления на род и вид, но проблема им даже не была поставлена. Органический мир, в сущности, продолжал оставаться загадкой. Естествоиспытатели намертво придерживались того, что Рудольф Штейнер назвал «
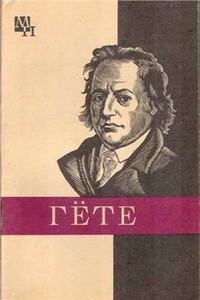
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Лекция прочитанная в МГУ им. Ломоносова в 25 мая 2005 г. "Философии по большому счету, — нет. Исчезли философские проблемы. Философия была всегда последовательностью проблем, а сейчас этого вовсе нет. Все эти Деррида склонированы с Хайдеггера, которому принадлежит честь быть первым дезертиром западной философии. Великую и трагическую работу мысли более чем двух тысячелетий он свёл просто к какой-то аграрной мистике. Гуссерль именно этому ужаснулся в своем талантливом ученике. Хайдеггер — это что-то вроде Рильке в философии.

Усваивая азы конкретного мышления, мы начинаем едва ли не с того, что отучиваемся на скорую руку априоризировать понятия и привыкаем пользоваться ими сквозь окуляр различных "жизненных миров". У рыночных торговок в Афинах, судачивших о Демосфене и Изократе, отнялся бы язык, приведись им однажды услышать слово идея в более поздней семантике, скажем из уст Локка или Канта. Равным образом: никому не придет сегодня в голову выразить свое восхищение собеседником, сказав ему: "Вы, просто, ну какой-то психопат!", что еще в конце XIX века, после того как усилиями литераторов и модных психологов выяснилось, что страдают не только телом, но и "душой", могло бы вполне сойти за комплимент.

Если это диагноз, то путь от него ведет сначала назад к анамнезу и только потом уже к перспективам: самоидентификации или - распада. Немного острого внимания, и взору предстает картина, потенцируемая философски: в проблему, а нозологически: в болезнь. Что человек уже с первых шагов, делаемых им в пространстве истории, бьется головой о проблему своей идентичности, доказывается множеством древнейших свидетельств, среди которых решающее место принадлжеит дельфийскому оракулу "познай самого себя". Характерно, что он продолжает биться об нее даже после того, как ему взбрело в голову огласить конец истории, и сделать это там, где история еще даже толком не началась, хотя истории оттуда вот уже с полвека как задается тон.
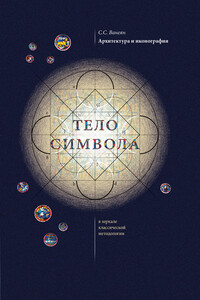
Впервые в науке об искусстве предпринимается попытка систематического анализа проблем интерпретации сакрального зодчества. В рамках общей герменевтики архитектуры выделяется иконографический подход и выявляются его основные варианты, представленные именами Й. Зауэра (символика Дома Божия), Э. Маля (архитектура как иероглиф священного), Р. Краутхаймера (собственно – иконография архитектурных архетипов), А. Грабара (архитектура как система семантических полей), Ф.-В. Дайхманна (символизм архитектуры как археологической предметности) и Ст.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.
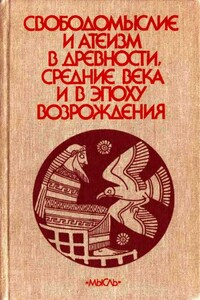
Атеизм стал знаменательным явлением социальной жизни. Его высшая форма — марксистский атеизм — огромное достижение социалистической цивилизации. Современные богословы и буржуазные идеологи пытаются представить атеизм случайным явлением, лишенным исторических корней. В предлагаемой книге дана глубокая и аргументированная критика подобных измышлений, показана история свободомыслия и атеизма, их связь с мировой культурой.

Макс Нордау"Вырождение. Современные французы."Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.