Философия и религия - [4]
Kтo-нибудь скажет: но ведь о неизменности Бога говорит даже не богословие, а само Откровение: "Всяко даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Отца светов, у негоже несть пременение, или преложения стень" (Иак 1, 17). Стало быть, верен по крайней мере этот тезис — Бог неизменен? Нет. Апостолу здесь приоткрылся угол завесы, и стало можно видеть лик божества. Брат Божий ведет себя не как исследователь, направленный ученым сообществом выяснить устройство интересного объекта под названием "божество" и констатирующий: объект устроен так, что никогда не меняется, всегда точно такой, как был прежде, и в нем нет даже отдаленных признаков перемены. Апостол говорит, взволнованный и ослепленный сиянием открывшегося. Его испугало бы, что может существовать читатель, способный принять его за информанта, а его проповедь — за дескрипцию; он, возможно, в горечи вспомнил бы слова 76 псалма царя Давида:
Размышляю о днях древних, о летах веков минувших...
Неужели навсегда отринул Господь, и не будет более благоволить?
Неужели во гневе затворил щедроты Свои?
И сказал я: Вот мое горе — изменение десницы Всевышнего
Тем, что в Писании есть и "у Негоже несть пременение", и "изменение десницы Всевышнего", исключается возможность сделать его базовым текстом онтологической догматики, которая легла бы в основу общеобязательного мировоззрения. Божество Священного писания не машина для обслуживания идеологических потребностей. Перед Богом Дионисия Ареопагита, апостолов, псалмопевца необеспеченность человека по части идеологии дорастает до неба, до "страха и трепета".
Если бы вера на правах имеющей больше света, чем философия, открыла ей дефиницию божества, та могла бы уходить со сцены. Победой и философии, и христианства было то, что там, где философия воздержалась от "категорий", христианство тоже воздержалось и дало определение таинственное, немыслимое. Когда Плотин говорит, что ум — сын отца, единого-блага, то сын и отец здесь — несобственные обозначения. В христианской догматике, наоборот, толковать Отца как тезис онтологической триады — лишь рискованная и необязательная иллюстрация к тому, какие глубокие смыслы, между прочим, можно при желании извлечь из Троицы. Единый в Трех, Неслиянный и Нераздельный, при том что каждый из Трех равен другим по достоинству — эти заведомо непостижимые формулы говорили о хорошей философской школе отцов Церкви. Они знали, что место, будто бы оставленное философией для именования первого начала, в действительности занято полнотой опыта не неспособности, а законченной невозможности что-либо пo-человечески сказать: т. е. что философия в своем молчании перед Началом уже сказала все, и дальше говорить Богу.
Святоотеческое богословие оберегало себя от философии и этим оберегало философию. В Византии XIV в. от этой традиции чуть было не отошли. На Константинопольском соборе 1351 г. был принят догмат о различении в Боге сущности и энергии. Энергии понимались как нетварные, т. е. верховное божественное начало оказывалось множественным. При его абсолютной простоте такое невозможно. Паламе за тысячелетие до него возражал Плотин ("Против гностиков" I): относительно первых простейших начал нельзя говорить, что одно в них существую в возможности, другое в энергии (осуществленности, действительности): они всецело осуществленность, действительность, энергия. В современном Паламе Константинополе была еще сильна философская школа, не прерывавшаяся от античности и уже знакомая с западной схоластикой, с Фомой Аквинским. На резкие философские возражения новому догмату паламиты-богословы ответили, как во всей истории христианской догматики, уходом из области философии. Различие между сущностью и энергией в Боге было названо неразличимым. Неразличимое различие (αδιαφορος διαφορα) — философская неувязка, но богословски это указание на непостижимость тайны, как неслиянная нераздельность трех Лиц, немужнее зачатие и воскресение из мертвых. Введение непостижимости в догмат о различии сущности и энергий было философско-религиозным достижением, подобным преодолению арианского рационализма в Троице. Три неслиянных и нераздельных Лица не имеют отношения к философии. Их "понятийная дедукция" становится или возвратом к смешению философии и религии, мало что оставляющему от обеих, или необязательной иллюстрацией, как августиновское пояснение Троицы через любовь-единение-связь. То же с софиологией. Претензия на философски обоснованную трактовку Софии как обращенности Бога к миру не выдерживает критики: смешно, можно сказать с Плотином, будто в простейшем Начале есть аспекты отношения к чему-то вне его. Другое дело, что София — лицо библейской истории, откровение о творении. Софийно создан мир. Сплошное присутствие Софии в творении таинственно. Философия Софии рискует быть чем-то вроде объявления Бога-Отца тезисом, Сына антитезисом, Духа Святого — синтезом. Нам кажется, что, беря слово "София" из почтенного контекста, мы уже что-то имеем в руках, но это не так. Мы можем очень много раз повторить это слово, не приблизившись к тому, о чем оно говорит. Человек произносит слово "Бог", пишет Плотин в трактате "Против гностиков", и оно как будто бы что-то ему обещает. Верьте в Бога, следуйте Богу. Слов, однако, пока еще мало. Если вы это сказали и этому учите, то покажите, как следовать. Можно твердить имя Бога и оставаться связанным вещами мира, не умея честным, не гностическим (отсекающим) образом развязаться ни с одной из них. Развязывать узлы, запутавшие человека, учит тот терпеливый разбор, то "узнай себя", которым занята философия. Ее добротная, добросовестная работа, добивающаяся последней ясности, дает человеку найти себя, без чего Бог где найдет человека?
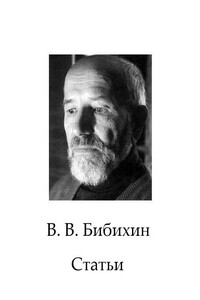
Статьи В. Бибихина, размещенные на сайте http://www.bibikhin.ru. Читателю надо иметь ввиду, что перед ним - не авторский сборник и не сборник статей, подобранных под ту или иную концепцию. Статьи объедены в чисто технических целях, ради удобства читателя.
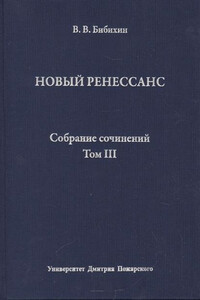
В книге проверяется предположение, что наше время можно считать небывалым сдвигом и порогом непредставимой исторической эпохи. Прослеживаются ступени решающего восстания против исторической судьбы в раннем итальянском Ренессансе. Критически оцениваются его типичные характеристики, рассматриваются определяющие фигуры Данте, Петрарки, Леонардо да Винчи, Макиавелли, Гвиччардини. В сравнении новых этических подходов с ренессансной поэтической философией выявляются общие черты возрождения как исторического начала.
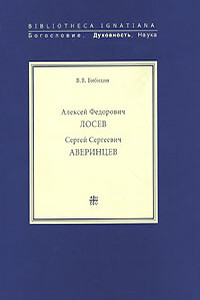
Верстка моих старых записей с рассказами и разговорами Алексея Федоровича Лосева заканчивалась, когда пришло известие о кончине Сергея Сергеевича Аверинцева. Говорить об одном, не вспоминая о другом, стало невозможно. Поэтому, а не по какому-нибудь замыслу, эти два ряда записей оказались рядом, связанные между собой только тем, что оба созданы захваченностью перед лицом удивительных явлений, в конечном счете явлений Бога через человека, и уверенностью, что в нашей жизни надо следовать за звездами.Не бывало, чтобы где-то был Аверинцев и это был не праздник или событие.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
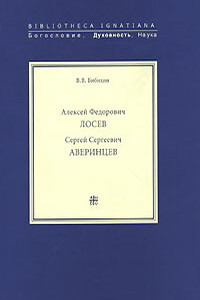
«Скажу по секрету, я христианин. Для меня величайшее достижение в смысле христианского подвига — исихазм… Как-то в жизни должно быть всё по-другому…Меня привлекает идеал άπλωσις, опрощения; всё настоящее, мне кажется, настолько просто, что как бы и нет ничего. В том же смысле я понимаю и θέωσις, обожение. Человек становится как бы Богом, только не по существу, что было бы кощунством, а по благодати. В опрощении, в обожении происходит возвышение веры над разумом. Ничего рассудочного не остается. И даже о самом Боге человек перестает думать.

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.