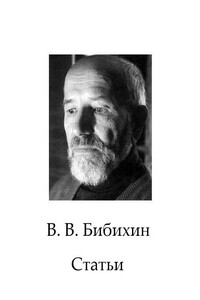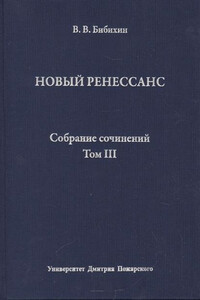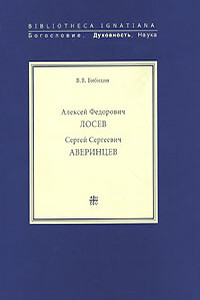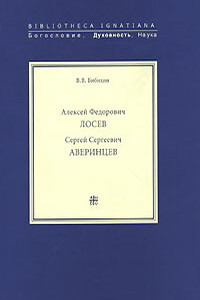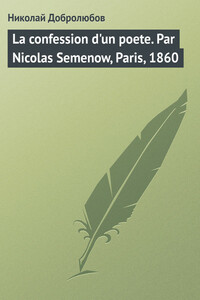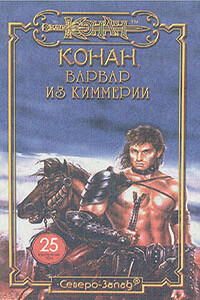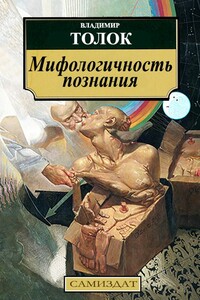Мы до сих пор не можем сказать, что философия у нас попущена такою, какой ее надо видеть, свободной, делом человеческого своевластия (Максим Исповедник) без оглядки на обстоятельства. Но мы не можем сказать что философия не прижилась в России.
При этой неопределенности ее статуса, продолжающейся и воm в эти наши дни с той же остротой что двадцать и сто и полтысячи лет назад, мы все сейчас полновесные участники удивительного нерешенного продолжающегося спора. Чашка весов всегда движется то в одну, то в другую сторону и мы не знаем, какой будет окончательный ответ. Он связан с судьбой страны.
Неопределенность статуса философии напоминает о неопределенном статусе власти у нас. О власти в России много говорят и пишут. Сама власть первым ставит вопрос о власти и наше ответное молчание понимает в свою пользу. Наша будущая власть уже сейчас достаточно наивно поднимает свою голову, велит «организовать жизнь», «родить власть», «иначе будет хуже»; рожайте меня пока не поздно, советует нам она, и ее хватка сжимается не потом, а сейчас. Свежая власть часто мало понимает сама себя, но тем безошибочнее жесты нового неслыханного контроля, тем более грозные, что самой власти страшные, уже сейчас набирают силу. Цель власти власть, говорит власть; вопрос о власти главный.
Мы так не думаем. Мы просим не принимать наше молчание в ответ на вызов власти за безразличие или уступку. Как–то объясниться мы всё–таки должны. Вместо рассуждений вспомним один давний эпизод. События в самом начале исторических образований, государств, движений рано и надолго вперед угадывают ход истории.
Князь Владимир Киевский основатель Руси в той всё определяющей форме, от которой ведут себя преемственные государственные образования на Восточноевропейской равнине вплоть до Московского княжества. Он образец для всей династии Рюриковичей и также для более поздних правителей, святой, креститель Руси, изгнавший иудейскую и латинскую веры. Если его фигура считается важной для последующей истории страны, то и способ перехода власти от него к первому его престолонаследнику должен быть тоже знаменательным. Об этом говорят, как нам кажется, пока ещё односторонне.
Летописи сообщают: в 1015 году Владимир разболелся. Печенеги шли на Русь. Владимир собрал войско и послал с ним своего сына Бориса, в крещении Романа, князя Ростовского. 15 июля 1015 года Владимир умер в Берестове, своей резиденции под Киевом. «И ведавше мнози плакавше по нем все множество: боляре яко отца, людие яко строителя, нищий яко заступника и кормителя». Тут странные слова: ведали многие, плакало всё это, т. е. знавшее о факте смерти, множество. Дело в том, что кончину князя скрывали, и вот почему. Борис, посланный преследовать печенегов, отсутствовал, и бояре «потаиша Владимерово преставление того ради, дабы не дошла весть до окоянного Святополка», еще одного из сыновей Владимира. Тот всё–таки узнал, «з дружиною своею приспе в Киев» «вборзе» и «седе на столе отчи». Он начал раздаривать имение отца и, пишет летопись, киевляне имение брали, но с задней мыслью: они ненавидели Святополка и «бяху с Борисом, чаяху на княжение, любяху бо его вси».
Когда Борис приблизился к Киеву, он узнал сразу две вещи: что отец умер и что на его место сел Святополк, которого вроде бы нужно теперь согнать. Это будет справедливо, этого хотят киевляне, он имеет на то все права, он легитимный наследник, любимый сын, исполнитель последнего важного поручения Владимира. Он однако говорит что не поднимет руки на брата. Такой миролюбец явно не годится на место правителя в крутые времена. «И слышавше то (т. е. услыхав от него пацифистские речи) боляре и вои его разыдошась от него». Естественно. Что делать властным и вооруженным людям при князе, который не хочет драться за власть. Борис узнаёт что Святополк для надежности хочет всё–таки его убить. И снова неожиданное: «Благословен Бог: не отиду от места сего, ни отбежу (эмигрирую, ἀποδιδράσκω), лутче есть умрети ту, нежели на чюжои стране». Тем гражданским и военным, которые всё–таки не покинули его, он настоятельно велит разойтись. «Идите в домы своя“. Всё. За власть не цепляюсь. Войско распускаю. Часть войска расходиться не хочет. (Ни, владыко: преданы тебе благим отцем твоим в руце твои, но се да идем с табою или одне, и нужею изженем из града, тебя же введем, преда нам тебя отец твои». То есть если хочешь, мы сами без тебя возьмем город. Нет, не надо. «Молив же их, много целова их вся и тако отпусти в домы их». Он ещё пробовал вести переговоры с братом, но Святополк задержал посла и, пока Борис дожидался ответа, поторопил своих людей, которые с крайней жестокостью убили Бориса, венгра телохранителя, прикрывшего его собой, и нескольких верных людей. Летопись не скрывает, на чьей она стороне, на все века отдает на позор имена «законопреступников»: Путла, Талец, Елович, Ляшко, они убили прекрасного доброго князя, «отец их сотона». Это сильно сказано: они воплощение чистого зла, никакие обстоятельства их не оправдают. Всё ясно.
«Святополк же окоянны, помысли в себе, рек: «Се же убих Бориса, како погубить Глеба?“» Глеб, в крещении Давыд, тоже cын Владимира, муромский князь. Конь споткнулся под Глебом, дурное предзнаменование. Оно скоро подтвердилось, ему передали от Ярослава Новгородского: «Не ходи, отец наш умер, а брат убиен от Святополка». «Се же слышав, Глеб возопи со слезами, плача, глаголя по отцы, паче же по брате: «Увы мне, брате мои, господине. Лутче бы ми умрети с тобою, нежели жить на свете сем, аще б видил брат мои мое воздыхание, то явил бы лице свое англьское; толико постиже мя беда и печаль; уне бы ми умрети с тобою, господине мои“. Со слезами глаголя и моляся, подобно князю Борису словеса глаголя». Глеб, как перед этим Борис, тоже убедил дружину не поднимать гражданской войны, оставить его одного. «Лутче есть единому умрети за вся». «Окоянни же то видевше, устремившась, аки звери диви». Опять у летописца нет никакого двойного счета, никакой скидки на исторические условия и обстоятельства, никаких точек зрения. Глеб своим: «Братия милоя, меня оставяте, а сами не погинетe меня деля (ради)». Он умер, говорит летопись, молясь.