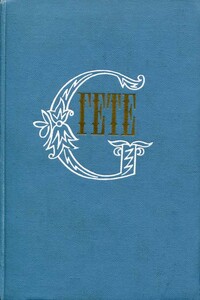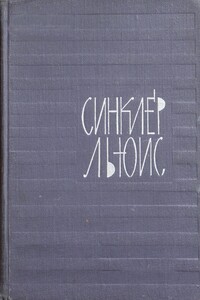Но когда потом, на другой или третий день, с ними сталкивался кто-нибудь из русских путешественников, на бульварах, набережных или на всемирной выставке, у картин и мозаик или кружев и бархатов, то происходили нередко разговоры вроде следующего:
— Ну, как вы довольны концертом французов?
— Да что, ваше высокоблагородие, уж больно неважен концерт-то этот был. Ничего особенного тут у них не слыхать.
— Отчего так?
— Да как же-с: играют вовсе незнаменито. Конечно, скоро, ровно и громко, иное даже уж и чересчур бегло-с и громко-с, а только приятности уж совершенно никакой нет, тоже и понятия-е мало. Как можно против наших! Опять тоже и какие все они вещи играют.
— Что же такое?
— Все марши да марши, а потом еще галопы! Что за диво играть такую музыку? И идет ли оно в этаком концерте большом? Нет, нас не то что в этом концерте, а просто и в Новой Деревне, или в Петергофе, или на парадном обеде, что ли, и слушать не стали бы, когда мы начали бы играть такие все вещи.
— Но что же, по вашему, надо тут играть?
— Да как же-с! А вот попури хороший из разных тем или фантазию на оперу или увертюру какую-нибудь важную, или другое какое сочинение, а то что это: все только одни марши? И потом еще-с играют они какую-то старину древнейшую: нынче другое требуется.
— Так как же, надеетесь вы, что в большом концерте отличитесь лучше их?
— Надо стараться-с. А по правде сказать, так не опасны нам эти французы. С этакими музыкантами и спорить-то чести нет большой. Вот австрийцы или пруссаки — другое совсем дело. Эти, сильны больно, говорят. Ну, уж известно — немецкие музыканты. Эти всегда хороши бывают. Довольно их слышно и в Петербурге. А то что французы: с этими и тягаться-то не стоит.
И вот, ожидая большого европейского концерта, наши музыканты готовились усердно, прилежно. Всякий день были у них репетиции — в изящных конюшнях à la russe нашего отделения всемирной выставки; оттуда незадолго перед тем отправились назад в Россию с наградами наши рысаки и скакуны, и их место заняли другие претенденты на премии всемирной выставки. Музыкой запаслись наши музыканты самым основательным образом. У них было пьес 70 с собой, в том числе «попури хороших, фантазий на оперы и увертюр важных». Но все понапрасну. Во время пребывания в Париже им удалось сыграть едва только пьесы две-три, и на том кончились все их музыкальные подвиги. Однажды на репетицию явился французский генерал, председатель музыкальной комиссии присяжных, прослушал, с ученым видом знатока, увертюру из «Жизни за царя», которую наши кавалергарды готовили для концерта, и потом с участием и сердечным доброжелательством советовал не играть этой увертюры. «Ну, конечно, это превосходная вещь, — говорил он капельмейстеру, — вот вы да я это понимаем. Но, поверьте мне, эта вещь не для публики — уж я знаю французов, парижан, — лучше выберите что-нибудь другое!» Странная была эта забота понимающего генерала: не советовал же он другим оркестрам не играть какую-нибудь фантазию на «Жидовку», какую-нибудь увертюру Амбруаза Тома, какую-нибудь национальную увертюру Линдпайнтнера — все пьесы, стоявшие в программе европейского концерта — видно, все это годится для французов, для парижан, для европейской публики! Но генерала послушались и вычеркнули из программы концерта именно ту пьесу, которая была неизмеримо выше всех остальных по таланту и самостоятельной оригинальности.
Европейского концерта ожидали в Париже с большим нетерпением. Афишки его были так громадны, все журналы говорили о нем так часто и так много, обещанное состязание было такое новое, невиданное и неслыханное происшествие — европейские военные музыки еще в первый раз на свете сходились и играли вместе! И вот, когда, наконец, пришел день концерта, всеобщая жадность присутствовать на необыкновенном музыкальном бое разрослась до таких размеров, что тысячи людей теснились на площадке Дворца промышленности, за много часов до назначенного часа, а когда, наконец, отворились двери, толпа хлынула и неудержимой волной в несколько секунд разом залила всю залу. О впускании по билетам нечего было и думать, вся масса городских сержантов ничего тут не могла поделать, сложила руки и молчала.
Концерт обманул все ожидания. Он весь слеплен был из нелепостей и беспорядков. И европейская публика, и французские распорядители сделали все, что только можно было, чтоб первый европейский концерт был совершенно ни на что не похож. Публика — та ворвалась каким-то остервенелым зверем, силою набежало несколько тысяч людей, вовсе не плативших за вход, и долго продолжались споры и крики за места, перебранка с полицией. Потом, когда это кончилось, началось другое. Публика увидала, что музыкантам назначено играть на самом конце залы, значит, там, откуда большинство присутствующих вовсе их и не услышит. Каждая военная музыка состояла тут из 60–70 человек. Вспомните огромные размеры залы, десятки тысяч народа, там поместившиеся в тот день, — каково же было слышно тем, кому пришлось сидеть в середине залы или еще дальше! Но распорядители именно забыли, что зала огромна, что исполнителей всякий раз будет немного, а слушателей — десятки тысяч. Едва заняв места, эти слушатели начинают жаловаться: им уже вперед слишком ясно, что добрая половина всего, что станут играть, точно будто для них не существовала. Но начинается концерт, и чем же? Увертюрой «Оберона», т. е. такой пьесой, где есть длинное вступление самое нежное, воздушное, едва слышное. И вот эту-то увертюру выбрали все те же присяжные распорядители музыкальной комиссии, точно какая-то враждебная сила толкала их под руку и учила накопить вместе все, что только было неловкого и ошибочного.