Европа. Два некролога - [5]
Поразительно в этом немецком мышлении то, что оно ничуть не в меньшей степени обнаруживает объективность и фактичность, чем это в строго английском смысле предполагает слово experience. Немец смеет мыслить то, что искони находится в компетенции наблюдения: мир становления. Оттого он есть метафизик опыта. Но он рискует также и наблюдать то, о чем всегда решало мышление: мир бытия. Он есть тем самым эмпирик сверхчувственного. Ему неведом иной доступ к бытию, кроме как через становление. Он мыслит в непрекращающихся противоречиях, ибо его мышление не замуровано в гипсовые повязки понятий, но движется в сплошных понятийных метаморфозах. Его Бог — закоренелый гегельянец, который, однако, в пику своему исполняющему церковные обязанности Коллеге достаточно мужественен, чтобы суметь однажды осмыслить и выдержать собственный совершенный антропоморфизм. Можно, конечно, улыбнуться утонченному дурачеству Готфрида Бенна: Гераклит — первый немец, Платон — второй, оба гегельянцы, но было бы отнюдь не оптимальным решением не пойти здесь дальше одной улыбки. Ведь не улыбаемся же мы раннехристианскому топосу, согласно которому Гераклит, Сократ и Платон были христианами до Христа! С начала Нового времени старая контроверза Тертуллиана Афины или Иерусалим упраздняется в немецкой философии, где бы эта последняя ни заявляла о себе: в Гёрлице или Веймаре, в Берлине, Мюнхене, Йене или Вене, или уже всюду, где мыслится на немецкий лад.
В немецком мышлении анонимный философский Логос античности откликается на свое действительное имя. Поскольку имя это всегда оглашалось лишь на религиозном языке и для верующих, мир духа представал распавшимся на две «власти», именно: Афины и Иерусалим. В рамках римско–католического глобализма обеим крайностям надлежало быть если не примиренными, то по меньшей мере сосуществующими. Схоластическая философия, сознающая себя служанкой христианского богословия и нисколько не скрывающая при этом своей фатальной страсти к арабоязычнику Аристотелю, сдвинула проблему в тупик двойной истины, что означало: верующим христианам дозволяется и мыслить, при условии что веруют они по–иудейски, а мыслят по–гречески — без того, стало быть, чтобы доктора богословского семинара дулись на коллег с соседнего естественнонаучного факультета, и наоборот. Со сменой гегемона, когда расслабленный спиритуализм вынужден под давлением энергичного научного эксперимента отречься от трона, примирение ищется уже не в теологическом заповеднике, а в приключенческом мире естествознания, что значит: атеистическое мышление науки «дополняется» моральными отрыжками веры. Немецкое мышление — так означена отныне перспектива, в которой свершается исход из христианского пленения; исход имманентен ПОЗНАНИЮ. Тем самым, однако, палестинское событие 33 года, бывшее (1 Кор. 1:23) для Иерусалима соблазном, а для Афин безумием, высвобождается из–под ига как спиритуализма, так и материализма (оба в стиле бидер- мейер), и завещается — в посмертной воле Фомы 1274 года — будущему гётеанизму[9].
Подобно тому как мировой задачей иудейства было подготовить Логосу—Христу его физическое тело, так мировой задачей германства является сотворить ему его МЫСЛЕТЕЛО и явить его миру как ОТКРОВЕНИЕ СОЗНАНИЯ. Сопротивление этой задаче и образует с тех пор тайную пружину европейской истории; можно видеть, как из десятилетия в десятилетие, а дальше уже из года в год против немецкой идеи мобилизуются и сплачиваются стада мира, в первую очередь и дисциплинированнее всех — немецкое стадо. Ибо

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…
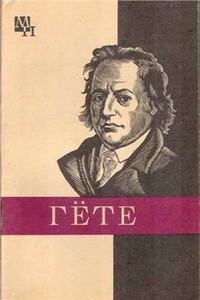
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
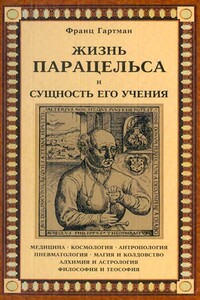
Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.
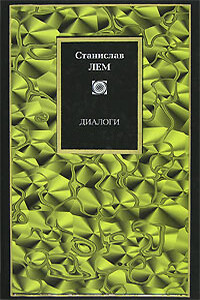
Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.