Евреи - [42]
Он слушал, и ядовитой ненавистью напитывалась его душа, и весь как бы уже прицеливался в сильных неправдой и злом. Давид продолжал, и с каждым словом его враг как будто сжимался, втягивался, собирал свое могущество в одно место, словно хотел подняться во весь рост.
– Что скажете, Нахман? – шепнула Голдочка, сверкая глазами…
Но вот Давид заговорил о рабочих… Опять радостно и победно зазвучал его голос. Как клич, раздались его слова. Со всех сторон, из домов-лачуг, из фабрик, из заводов показались рабочие. Они выступали еще медленно, они испуганно озирались, они колебались. Голос Давида звучал все увереннее… И они выходили смелее, их лица одушевились, они соединились, они выстроились в могучие ряды…
– Где мое незнание? – спрашивал себя Нахман, усталый от очарования.
Теперь рабочие побеждали. Они ломали старый мир, старые отношения людей, и занималось утро братства людей, народов, свободы…
Давид замолчал. Все мускулы его лица еще дрожали, и руки, сжатые в кулаки, не разжимались.
– Ну что, я вам говорил! – с восторгом воскликнул Хаим. – Ребята кое-что понимают.
– Мы должны молчать, Хаим, – тихо произнесла Голдочка… – Зачем мы жили?
Нахман не слушал их, и эти серые голоса и эти серые снова причиняли ему страдание.
– Однако, мне пора, – выговорил Давид после долгого молчания. – Дайте мне адрес, и я уйду.
– Сегодня я больше работать не буду, – сказал вдруг Нахман, поднимаясь.
Он казался таким возбужденным, что Голдочка с беспокойством произнесла:
– Куда вы теперь пойдете, Нахман? Вы на себя не похожи.
– Может быть, нам по дороге, тогда пойдем вместе, – предложил Давид.
– Слышишь, Голдочка, – рассмеялся Хаим, – он еще уводит его.
– Я пойду с вами, – просто сказал Нахман, – мне нужно у вас еще спросить…
Он говорил упрямо, будто требовал, и Давид, спрятав адрес, негромко ответил:
– Хорошо, я найду для вас время…
Оба простились с Хаимом и Голдочкой, и, когда вышли на улицу, Нахман с жаром начал:
– Вы мне открыли глаза, Давид, – я пойду к вам… Не сомневайтесь.
Он пошел быстро, погруженный в счастливый бред, и Давид едва поспевал за ним. На улицах было тихо, и теперь, при свете дня, бедность и заброшенность окраины были еще ужаснее. Но не печаль, а удушающую радость испытывал Нахман, шагая по грязи талого снега. Священными казались ему эти дома, страдания людей, живших в них, – во всем он видел могучий рычаг и будто в царстве завтрашних воинов проходил он.
– Теперь говорите, – произнес он, вдохнув воздух полной грудью и оглядываясь. – Я чувствую, что начинаю жить…
И Давид опять заговорил, и Нахман спрашивал… И оба шли погруженные в свои мысли, в свои надежды и веру, – а из города навстречу им несся суетливый шум, в котором не было намека на предчувствие, что скоро его неправде придет конец.
11
Весна возвращалась…
Каждый день она приходила с полей, приходила с моря, из далеких стран, и все дольше засиживалась в городе. По утрам уже белели теплые росы на крышах, на деревьях, и до восхода солнца мутные туманы бродили на улицах, по воздуху, по небу… Пробивалась трава, в комнатах наливались цветы, все чаще слышался колокольный звон. Запахло Пасхой.
Изо дня в день на высохших улицах все больше набивалось народа чистого, серого, – ходили солдаты вразвалку и пели свои песни, и, куда бы ни посмотрел глаз, отовсюду, из ворот, магазинов, из парадных входов, щелей появлялись люди, – и все пахли весной. Нельзя было разгадать, что случилось, но дома невозможно было усидеть. Раскрывались окна, чтобы выпустить зиму, и теплый сладкий воздух, напоенный солнцем, опьянял человека, и, как женщина, тащил его бродить. И все на улице казались свежими, новыми, походили на молодую траву, и их нельзя было узнать, такие они стали славные… Как будто все дела убежали с весной, и теперь людям можно было жить, как птицам. Удлинилась жизнь, и в день можно было все успеть, поработать и походить по молодевшим улицам и улыбаться себе и встречным. И целый день с утра до вечера, в работе или на свободе люди были добрыми, хорошими и не злились…
Весна возвращалась… Она приходила с полей ласковая, соскучившись по людям… На полях по утрам раздавался рожок, сзывающий солдат на ученье.
Самым важным событием в доме Чарны было теперь то, что выписавшийся из больницы Натан и Фейга влюбились друг в друга. Сближение между ними началось еще в больнице, когда Фейга по поручению Чарны относила Натану сладкое или фрукты. В феврале он неожиданно начал поправляться, а в середине марта уже окреп настолько, что мог выписаться. Натан на первое время поселился с Нахманом, и тут начался настоящий роман, втихомолку, со всей прелестью невысказанной любви. Они прятали свои взгляды от окружающих, переговаривались знаками и, как дети, бегали на свидание куда-нибудь за стенку, у повозок… Фейга рассказала ему правду своей жизни, и то, что она принуждена была себя продавать, делало ее мученицей в его глазах. Они сами не заметили, как влюбились друг в друга, но, хотя разговоры их с каждым днем становились все нежнее, настоящее слово не было еще произнесено: им – потому что не смел, ею – потому что стыдилась.
По вечерам к Нахману приходили гости, иногда Шлойма, Даниэль, Хаим, и в доме Чарны становилось шумно. Блюмочка, оправившаяся от потрясения и привыкшая к Чарне, усаживалась на руках у Шлоймы, и все беседовали о весне, о надеждах, о евреях…
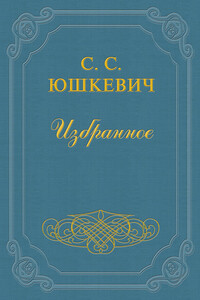
«С утра начался дождь, и напрасно я умолял небо сжалиться над нами. Тучи были толстые, свинцовые, рыхлые, и не могли не пролиться. Ветра не было. В детской, несмотря на утро, держалась темнота. Углы казались синими от теней, и в синеве этой ползали и слабо перелетали больные мухи. Коля с палочкой в руке, похожий на волшебника, стоял подле стенной карты, изукрашенной по краям моими рисунками, и говорил однообразным голосом…».

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
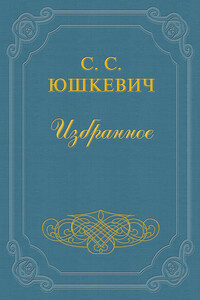
«Странный Мальчик медленно повернул голову, будто она была теперь так тяжела, что не поддавалась его усилиям. Глаза были полузакрыты. Что-то блаженное неземное лежало в его улыбке…».
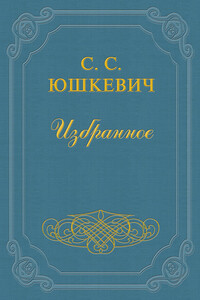
«Теперь наступила нелепость, бестолковость… Какой-то вихрь и страсть! Всё в восторге, как будто я мчался к чему-то прекрасному, страшно желанному, и хотел продлить путь, чтобы дольше упиться наслаждением, я как во сне делал всё неважное, что от меня требовали, и истинно жил лишь мыслью об Алёше. По целым часам я разговаривал с Колей о Настеньке с таким жаром, будто и в самом деле любил её, – может быть и любил: разве я понимал, что со мной происходит?».
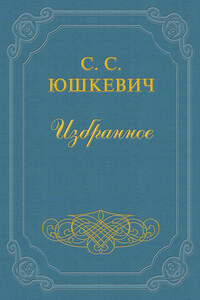
«Что-то новое, никогда неизведанное, переживал я в это время. Странная грусть, неясный страх волновали мою душу; ночью мне снились дурные сны, – а днём, на горе, уединившись, я плакал подолгу. Вечера холодные и неуютные, с уродливыми тенями, были невыносимы и давили, как кошмар. Какие-то долгие разговоры доносились из столовой, где сидели отец, мать, бабушка, и голоса их казались чужими; бесшумно, как призрак, ступала Маша, и звуки от её босых ног по полу казались тайной и пугали…».
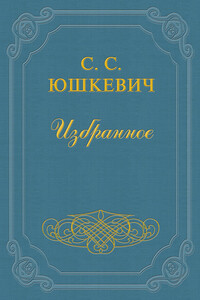
«И вдруг, словно мир провалился на глазах Малинина. Он дико закричал. Из-за угла стремительно вылетел грузовик-автомобиль и, как косой, срезал Марью Павловну. В колесе мелькнул зонтик.Показались оголенные ноги. Они быстро и некрасиво задергались и легли в строгой неподвижности. Камни окрасились кровью…».

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».

Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)