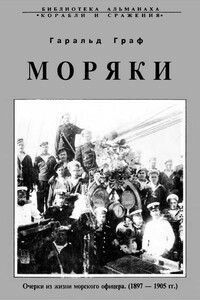Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика.
Под самым городом сиротливо торчали высокие трубы и громоздились большие здания двух цементных заводов, конечно, «справляющих революцию», т. е. бездействующих. Городские здания красиво расположились по правую сторону бухты; чернели дебаркадеры пристаней, элеватор. Кое-какие постройки скучились около заводов, подошли к белому кружеву прибоя; а на вершине самой высокой горы, как голубь на колокольне, белел крохотный домик, вокруг которого ползали по горе неясные черные точки. Как я узнал потом, домик этот был правительственной обсерваторией для метеорологических наблюдений. Подвижные точки по горе – было стадо проживавшего наверху астронома, которого почему-то называли «гастрономом»
Когда наш пароход наконец бросил якорь и остановился на рейде против английского крейсера-стационара, ко мне подошел с раскрытым от удивления ртом маленький, похожий на макаку, человек в коротенькой курточке пароходного «боя» и с некоторым недоверием в голосе спросил: «That is your country?»
Человек этот в течение трехнедельного плавания от Лондона до Новороссийска прислуживал мне в каюте и за столом и еще накануне выразил уверенность, что я дам ему «на чай» не менее английского фунта.
– Потому что, – ломаным английским языком разъяснил он свою претензию, – у меня на родине вот такие маленькие дети, – он показал на четверть аршина от палубы, – а вы, сэр, человек богатый, потому что вы едете в первом классе и у вас большой багаж.
Однако едва ли не при первом взгляде на берег, против которого мы остановились на рейде, уверенность в том, что он получит от меня фунт, видимо, сильно поколебалась. Человек-обезьяна, выдававший себя за португальца, метис с Суматры, смерил меня высокомерным взглядом и переспросил:
– Это ваша родина?
Делать было нечего: приходилось сознаться, что мы действительно прибыли наконец в мое богоспасаемое «интернациональное» отечество, в территорию, занятую Добровольческой армией.
А картина на берегу открывалась неприглядная.
Стоял чудесный солнечный сентябрьский день, и горный пейзаж вокруг залива был восхитителен. Но в этой прекрасной раме из голубого неба и темно-зеленых гор тянулись вдоль берега неопрятные казенные выбеленные сараи, у которых стояли на часах оборванные, обросшие солдаты в папахах, солдаты, скорее похожие на опереточных бандитов, чем солдат. Уныло тянулись на рельсах вдоль сараев ряды разбитых загаженных вагонов. Резко посвистывали жалкие инвалиды-паровозы, покрытые копотью и ржавчиной. Далее, поднимая облака белой цементной пыли, медленно ползли грузовые автомобили. Между путями бродили тощие поросята, куры; бездомные псы рылись и грызлись в кучах мусора; несколько оборванцев безучастно глазели на пароход. С криком носились чайки и дрались из-за плавающих у берега арбузных корок и отбросов с кораблей.
Из дверей товарного вагона вышла и неловко спрыгнула на-землю молодая миловидная женщина, одетая по-городскому, и тотчас же вступила в мимическую беседу с нашими кочегарами, облепившими борт с кормы. Женщина показывала что-то руками и кричала; кочегары-индусы отвечали ей и ржали от удовольствия, сверкая своими жемчужными, зубами.
Несколько грязных закопченных катеров тотчас же подошли и причалили к пароходу; а один начал плавать вокруг, и сидевшие в нем два черномазых господина жадно искали чего-то на палубе глазами и что-то кричали матросам. Матросы дождались, когда они подъехали вплотную и, при громком хохоте, окатили их водой. Катер с отчаянной бранью быстро отошел и снова начал, пофыркивая скверным двигателем, словно откашливаясь, плавать вокруг.
Быстро покончил с проверкой документов английский военный контроль, и на пароход поднялся по трапу безусый подпоручик в низкой кубанской папахе, с трехцветной нашивкой на рукаве. За ним, лениво волоча винтовку, взобрался оборванный солдат.
Нас, русских пассажиров, было на пароходе всего четверо; пароход был военный и привез в Новороссийск груз снарядов и взрывчатых веществ.
Офицер с нашивкой подошел, приложил руку к папахе, отрекомендовался комендантским адъютантом и сейчас же спросил, не желает ли кто-нибудь из нас обменять иностранную валюту на русские донские деньги.
Видимо, несколько конфузясь, он добавил:
– Знаете, это мой долг, чтобы вас не обманули спекулянты… Вот они… Уже пронюхали, что есть пассажиры. А вы думаете, они станут даром жечь бензин? Нет, они очень даже знают, зачем пожаловали…
Вынув бумажник, адъютант сообщил, что у него случайно есть при себе несколько тысяч, и предложил обменять их – из любезности. Мы согласились, потому что русских денег у нас действительно не было; однако после оказалось, что предупредительный поручик жестоко нас надул.
За это он посвятил нас в местные злобы дня.
– Видите, – показал он на своего солдата с винтовкой сурово посматривавшего на нас, – этого молодца я вожу с собой повсюду, потому что нет сладу со спекулянтами. Знают, подлецы, что я встречаю все заграничные пароходы, и липнут: возьмите да возьмите с собой, поручик. Раз я взял одного грека с собой на пароход, – уверил, что мать его с сестрой из Константинополя приехали, – так что же вы думаете? Ни матери, ни сестры не оказалось, а он за два с чем-то часа двести тысяч рублей заработал, весь пароход ограбил да еще мне, каналья, осмелился двадцать тысяч за содействие предложить! Да это еще ничего: они вышки особые на крышах у себя понаделали да в бинокль и следят – не покажется ли от Геленджика пароход. Разбойники!