Евреи - [40]
У изголовья горели свечи, и они казались не свечами, а чем-то исходящим от покойницы, как бы продолжением печального, оскорбительного образа человеческого ничтожества.
Они горели нехорошим пламенем, красные язычки с копотью рвались к потолку, и от них шел удушливый запах. Старухи стояли на корточках, положив руки на тело, и с плачевным пением рассказывали о добродетелях покойницы и искренно плакали, вознося моления, ибо вспоминали о своей жизни, беззащитной в руках Того, Кто может все… И это покрытое черным сукном тело покойницы, и эти скверно горящие свечи, и тоскливая, сладостная мелодия старух, – все было так внушительно, дышало такой властью, что потрясенные ужасом сердца не боролись…
На руках у Чарны, прижавшись к ней, сидела почерневшая от страха и горя Блюмочка и, когда она опоминалась, дико и жалобно вскрикивала; «мама, мама», и начинала биться и рваться… А Чарна какими-то своими словами уговаривала девочку, и по ее лицу, доброму, милосердному, текли слезы. У тела менялись старухи, приходили другие и однообразные поющие голоса и чудесные слова беззащитности и печали, такие трогательные, что стены бы заплакали, легко вырывали стоны и слезы у присутствовавших мужчин и женщин.
Нахман не выдержал страдания и пошел домой.
– Что с Блюмочкой? – спросила Мейта, увидев его.
Нахман не ответил, а Фейга стала рассказывать, как это произошло, и как убивалась Блюмочка.
– Что с ней будет, – спрашивала Мейта, – что с ней будет?
Она опять заплакала, вспомнив, как девочка вбежала в комнату и бросилась ей на руки, а Нахман, покачав головой, тихо произнес:
– Мы ее возьмем к себе, Мейта.
Теперь он чувствовал особенную нежность к девушке и хотел бы, чтобы Фейги не было, а он мог рассказать обо всем. И, когда Фейга, поняв по их лицам, что оба хотят остаться наедине, ушла, – Нахман пересел к Мейте и с жаром сказал:
– В жизни, Мейта, нужно быть добрым, милосердным… Мы сами слабы, беззащитны, но нужно быть милосердным.
– Мы будем милосердными, – произнесла она, поцеловав его руку, – больше, чем в наших силах…
Она не отнимала его руки от своих губ и так сидела, а он рассказывал ей о Неси, и в сердце обоих была печаль…
Очень поздно вернулась Чарна с Блюмочкой на руках. Девочка, разбитая усталостью, крепко спала, и Мейта, раздевая ее, целовала ее худенькие ручки, худенькое тело и плакала о ее судьбе. Чарна положила Блюмочку подле себя и всю ночь вздыхала, не смея своим голосом выдать всхлипывающей со сна девочке, что она не дома. На рассвете Блюмочка проснулась и, увидев себя в чужой комнате, как взрослая, тихо заплакала…
С тяжелым чувством Нахман пришел к Хаиму.
– Ну, вот и вы, – произнес Хаим шепотом. – Я думал – эта ночь не кончится. Что-то и вы не веселый…
Он оглянулся на Голдочку и еще тише сказал:
– Я думал, что в эту ночь потеряю ее… Душа моя разрывается. Добрая, как голубь. Добрая, Нахман, добрая!
Без жилетки, босой, похожий на больного мальчика, он стоял подле стола и смешивал горки табака, покашливал, а Нахман, не снимая пальто, недоумевающим тоном рассказывал о Блюмочке.
– Да, да, – вздохнул Хаим, – невесело в нашем городке. Нищие, больные… И отчего это человеку не везет на земле?
Нахман сбросил пальто, отогрел руки у казанка и подошел к столу.
– Подождите, – остановил его Хаим, – табак еще сухой…
– Я ничего не понимаю, – говорил Нахман, наблюдая, как Хаим набирал из кружки воды в рот и брызгал на табак, – нет, не понимаю! Вот нищета. Человек работает, – он должен быть свободным. Но работа не помогает. Свободы нет, сытости нет, здоровья нет. Я говорю, как ребенок, и знаю это. Нужно быть добрым… Но несчастный не может помочь несчастному, и все остается по-старому. Я мог бы, Хаим, сказать, что счастлив, но я замучился…
Он говорил так сердечно, и Голдочка поднялась на локтях, чтобы лучше расслышать.
– Хорошо, что я стою уже у конца, – задыхаясь, выговорила она.
– Вы совсем как дети, – растерянно произнес Хаим, – чего вы плачетесь? Это жмет сердце, это режет, как раскаленные ножи, но посмотрите на меня. Перестало на минутку болеть, – опять нужно стоять на ногах. У меня билет, но у каждого есть свое. Я не согласен с ребятами, но и у них свой билет, и вот здесь я верю им. Я не хочу другой родины, но сионизм, билет, – я верю им… Подождите, Нахман, сегодня ко мне зайдет один из ребят узнать адрес заказчика, которого я нашел для него. Вот с ним поговорите!
– Давид придет? – с радостью спросила Голдочка.
– Конечно, он, – смеясь, ответил Хаим. – Это, Нахман, славный парень. Он на днях лишь приехал из… Надо было знать его мальчиком.
Они стали работать. Нахман крутил папиросы, а Хаим вставлял мундштуки.
– Ого, – весело произнес Хаим, – честное слово, он скоро будет работать, как я…
– Ну, ну, еще далеко до вас, Хаим.
– Не дальше этого стола, Нахман. После Пасхи начнете работать на фабрике.
Они проработали до обеда, перекусили и опять засели. Часа в три послышалась возня у дверей.
– Это, наверное, Давид, – произнесла Голдочка.
– Конечно, он, – отозвался Хаим, разглядев гостя, – войдите, Давид, войдите!
В комнату шагнул человек в одежде рабочего. Нахман бросил на него быстрый взгляд и сейчас же разочаровался. Это был коренастый парень с широким лицом, с крупным носом и большим ртом. Глаза неодинаковой величины, темно-коричневые, казались мутными, и он производил впечатление слепого, который только что прозрел, или тонкого хитреца. Над упрямым лбом лежала густая куча курчавых волос, и с широкими плечами, неповоротливый, он походил на недоброго медведя.
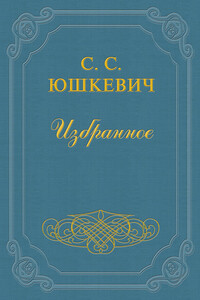
«С утра начался дождь, и напрасно я умолял небо сжалиться над нами. Тучи были толстые, свинцовые, рыхлые, и не могли не пролиться. Ветра не было. В детской, несмотря на утро, держалась темнота. Углы казались синими от теней, и в синеве этой ползали и слабо перелетали больные мухи. Коля с палочкой в руке, похожий на волшебника, стоял подле стенной карты, изукрашенной по краям моими рисунками, и говорил однообразным голосом…».

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
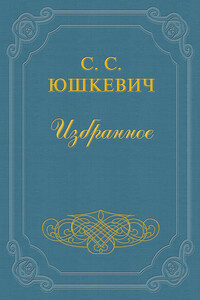
«Странный Мальчик медленно повернул голову, будто она была теперь так тяжела, что не поддавалась его усилиям. Глаза были полузакрыты. Что-то блаженное неземное лежало в его улыбке…».
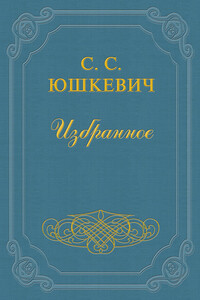
«Теперь наступила нелепость, бестолковость… Какой-то вихрь и страсть! Всё в восторге, как будто я мчался к чему-то прекрасному, страшно желанному, и хотел продлить путь, чтобы дольше упиться наслаждением, я как во сне делал всё неважное, что от меня требовали, и истинно жил лишь мыслью об Алёше. По целым часам я разговаривал с Колей о Настеньке с таким жаром, будто и в самом деле любил её, – может быть и любил: разве я понимал, что со мной происходит?».
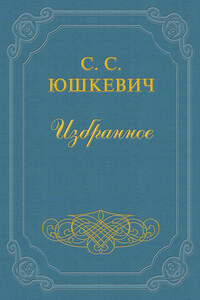
«Что-то новое, никогда неизведанное, переживал я в это время. Странная грусть, неясный страх волновали мою душу; ночью мне снились дурные сны, – а днём, на горе, уединившись, я плакал подолгу. Вечера холодные и неуютные, с уродливыми тенями, были невыносимы и давили, как кошмар. Какие-то долгие разговоры доносились из столовой, где сидели отец, мать, бабушка, и голоса их казались чужими; бесшумно, как призрак, ступала Маша, и звуки от её босых ног по полу казались тайной и пугали…».
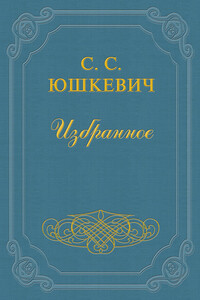
«И вдруг, словно мир провалился на глазах Малинина. Он дико закричал. Из-за угла стремительно вылетел грузовик-автомобиль и, как косой, срезал Марью Павловну. В колесе мелькнул зонтик.Показались оголенные ноги. Они быстро и некрасиво задергались и легли в строгой неподвижности. Камни окрасились кровью…».

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».

Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.
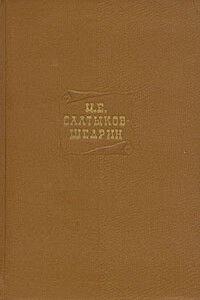
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».