Это было в прошлом веке - [4]
Дом был нашим. А на дворе — всё не наше.
Я стоял рядом с мамой.
Я чувствовал, что мама про меня не помнит.
А потом звякнула щеколда. В воротах стоял живой наш маленький Санька!
Мы жили в доме умершего деда. Маме — внучке старухи — было едва за двадцать. Мырчиха без Кузьмы подняла пять девок, но ей было восемьдесят шесть.
В немагазинных платьях до пят, в глухом платке, старуха могла брать без тряпки сковородки с плиты, без варежки драла у ворот молодую крапиву.
Во дворе, кроме навеса, была старая банька. Её никогда не топили. Двери баньки заложили поленницей.
Куры расклевали в ветхом срубе дупло и залезали в баньку. Яйца в гнёздах исчезли.
В то утро я увидел Мырчиху у дупла на коленях. Куры ступали по подолу, ногам, пытались проскочить в дупло, как поселковые тётки в сельпо за свежими пряниками. Она отодвигала их за зобы и продолжала крошить рукой сгнившую древесину.
Наконец, перевернулась с колен, села и застучала палкой по срубу. Я вышел. Мырчиха показала на дыру: «Лезь, батюшко, за яичками».
Моя умершая бабушка Елена Никитична учила с прогулки возвращаться в чистой рубашке. Но я полез, стараясь не попадать коленками в куриные лепёшки.
Яиц в бане было множество. Я находил их в раскрытой печи, в прохудившемся тазу, под лавкой. Под моей тяжестью вставали трухлявые половицы, яйца проваливались, светились сквозь щели — в темноте — как белые фонарики.
Банька была куриной республикой. На свободе птица сорила яйцами, где приспело, забывая о гнезде, о цыплятах.
Дупло мы заткнули пеньком. Куры вернулись в гнёзда. Я о бане больше никогда не вспоминал.
Давно нет домика, в котором просыпался пульс от каждого проходящего поезда. Сохранились только воротца, сколоченные в войну вернувшимся хромым из госпиталя дедом. Дед не пожалел кедровой плахи на них.
Воротца широки для входящего человека, они делались под запряжённую в арбу корову или быка.
На нашем месте, в новом доме живёт дядя Володя по прозвищу Мырчик.
Однажды я копал траншею под сарай, звякнула лопата.
Я поднял предмет, который хорошо помнил. Глиняный шоколадного цвета пузырёк ёмкостью на чекушку.
На донышке клеймо — слова без пробелов и со старинными «ятями»: «рижскийбальзам- настоящийюлийцезарь».
Из хозяйства Мырчихи. Выброшенный цезарь.
Крещенские морозы 2006 года
Ранее утро. На улице минус тридцать семь.
Эмалированные станы. Яркое освещение. Чёрные окна большими зеркалами из древней бронзы. Пассажиры электрички — как на полках холодильника.
Женщина лет пятидесяти, с добрым ленинским прищуром, в шапке церковной маковкой, с нашитыми железками (в деревенской Шапке Мономаха), держит на коленях развёрнутую бумагу.
Её толстые соседки в шубах — родовитые чернавские казачки — сидят, нахохлившись: носы кверху, пар изо рта, лениво сплетничают.
На ближней лавке, их односельчане, спиной, в пальтишках попроще.
От пустынного вокзала до деревни степью. На гладкой дороге под ураганным ветром — образ знаменитого полярника. Александр Васильевич Колчак — … спиной к проруби… на Ангаре…
Когда пятишься на север, битый час, мысли — они, как бы, последние.
Ленка на бегу, в тёплой комнате, читает титры с экрана «тюмень!»
Останавливается, смотрит в телевизор.
— Не-ет! Это не тюмень, это медведь! Дочь, она у меня в тепле.
А вот и я, совсем маленький. Дядя Яков — машинист паровоза — берёт за руку и подводит к платяному шкафу.
На дверце бантик. Оттопырив мизинец, дядя сначала снял мерку с хвостика. Потом ленточка красиво распускается, дверца со скрипучей музыкой раскрывается сама.
В узком деревянном пенале, на гвоздиках, фронтовая гимнастёрка, щегольские галифе, охотничье ружьё. На скамеечке хромовые сапоги, детское песочное ведёрко, заполненное развесным гуталином.
Рядом с порохом и дробью ружейное масло в бутылочке с соской.
Из этой бутылочки ещё тебя кормили, когда совсем маленьким был!
Я с изумлением уставился на ружьё — на своего молочного брата.
Громадное, суровое ружьё… — А цифры знает? — интересуется Таня моей Ленкой.
— До ста!
— А слагает?… Два плюс шесть — сколько будет, девочка?
Дочь молчит. Перебирает пальчики.
Бабушка: «Чё их перебирать? На руке пальчиков всегда одинаково».
Дед, потомок выпускника Ленинградской школы нквд (медленно и обстоятельно):
— Не всегда-а-а!!! Я лежал в хирургическом в пятьдесят восьмом году — у мальчишки на одной руке было шесть пальце, на другой — семь! Лишние отрезали.
Я, кажется, не чувствую своих обмороженных рук.
…А дядя Яков продолжает хвастаться дальше. Из сапожного хромового голенища он выдёргивает лаковую туфлю:
— Ленинградской фабрики «Скороход» — какая кожа!!!
И сгибает туфлю надвое, так что носик её дотягивается до попки. У меня перехватило дыхание. Н-ну, такого от него не ожидал! Знаю что туфле сейчас неудобно.
Силы небесные… И ни одной машины.
Уже у школы, на островке безветрия, навстречу глубокая старуха Шура Семеркина в фуфайке, голой рукой поправляет платок. Я замечаю на руке старую, ещё сталинскую лагерную наколку.
— Дорога есть? — спрашивает Шура, опираясь на берёзовый бадог.
— Холодно, бабушка — шепчу я.
Шура коротко ответила, улыбаясь морщинистым, беззубым лицом; пошутила:
— Х. с ним, лишь бы не война!

Вы верите в судьбу? Говорят, что судьба — это череда случайностей. Его зовут Женя. Он мечтает стать писателем, но понятия не имеет, о чем может быть его роман. Ее зовут Майя, и она все еще не понимает, чего хочет от жизни, но именно ей суждено стать героиней Жениной книги. Кто она такая? Это главная загадка, которую придется разгадать юному писателю. Невозможная девушка? Вольная птица? Простая сумасшедшая?

Действие романа «Дети Розы» известной английской писательницы, поэтессы, переводчицы русской поэзии Элейн Файнстайн происходит в 1970 году. Но героям романа, Алексу Мендесу и его бывшей жене Ляльке, бежавшим из Польши, не дает покоя память о Холокосте. Алекс хочет понять природу зла и читает Маймонида. Лялька запрещает себе вспоминать о Холокосте. Меж тем в жизнь Алекса вторгаются английские аристократы: Ли Уолш и ее любовник Джо Лейси. Для них, детей молодежной революции 1968, Холокост ничего не значит, их волнует лишь положение стран третьего мира и борьба с буржуазией.
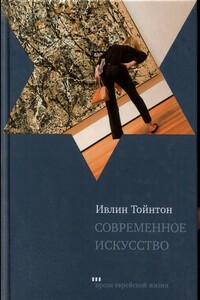
Прототипы героев романа американской писательницы Ивлин Тойнтон Клея Мэддена и Беллы Прокофф легко просматриваются — это знаменитый абстракционист Джексон Поллок и его жена, художница Ли Краснер. К началу романа Клей Мэдден уже давно погиб, тем не менее действие вращается вокруг него. За него при жизни, а после смерти за его репутацию и наследие борется Белла Прокофф, дочь нищего еврейского иммигранта из Одессы. Борьба верной своим романтическим идеалам Беллы Прокофф против изображенной с сатирическим блеском художественной тусовки — хищных галерейщиков, отчаявшихся пробиться и оттого готовых на все художников, мало что понимающих в искусстве нравных меценатов и т. д., — написана Ивлин Тойнтон так, что она не только увлекает, но и волнует.

«Когда быт хаты-хаоса успокоился и наладился, Лёнька начал подгонять мечту. Многие вопросы потребовали разрешения: строим классический фанерный биплан или виману? Выпрашиваем на аэродроме старые движки от Як-55 или продолжаем опыты с маховиками? Строим взлётную полосу или думаем о вертикальном взлёте? Мечта увязла в конкретике…» На обложке: иллюстрация автора.

В этом немного грустном, но искрящемся юмором романе затрагиваются серьезные и глубокие темы: одиночество вдвоем, желание изменить скучную «нормальную» жизнь. Главная героиня романа — этакая финская Бриджит Джонс — молодая женщина с неустроенной личной жизнью, мечтающая об истинной близости с любимым мужчиной.
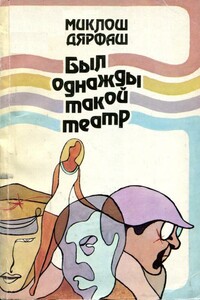
Популярный современный венгерский драматург — автор пьесы «Проснись и пой», сценария к известному фильму «История моей глупости» — предстает перед советскими читателями как прозаик. В книге три повести, объединенные темой театра: «Роль» — о судьбе актера в обстановке хортистского режима в Венгрии; «История моей глупости» — непритязательный на первый взгляд, но глубокий по своей сути рассказ актрисы о ее театральной карьере и семейной жизни (одноименный фильм с талантливой венгерской актрисой Евой Рутткаи в главной роли шел на советских экранах) и, наконец, «Был однажды такой театр» — автобиографическое повествование об актере, по недоразумению попавшем в лагерь для военнопленных в дни взятия Советской Армией Будапешта и организовавшем там антивоенный театр.