Эстетика - [4]
Это предполагает внутреннее движение и активность. Эта активность — моя активность, но вместе с тем, по-видимому, и нет. Она не произвольна, но дана в объекте и с ним связана. Она проявляется как нечто относящееся к объекту — необходимо относящееся. Не к объекту самому в себе, но к объекту, поскольку он мой объект, т. е. поскольку он мною созерцается. В каждом созерцаемом мною объекте скрываюсь я, созерцающий его, с моей внутренней активностью. Кратко мы выражаем это словами: я объективирую себя с моей внутренней активностью.
Это объективирование, совершаемое при созерцании всех объектов, я называю «общим апперцептивным объективированием». Благодаря ему, например, каждая линия жизненна. Когда я ее созерцаю, я ее провожу, протягиваю, отграничиваю, резко начинаю и обрываю, или постепенно свожу на нет, поднимаю и опускаю, сгибаю, поворачиваю, суживаю и расширяю. Мы имеем тут в виду не ее геометрические формы, но ту активность, которую мы переживаем и объективируем в ее формы. То есть мы указываем на то, что при созерцании формы мы переживаем активность, которая нам кажется непосредственно связанной с этой формой.
От этого общеапперцептивного объективирования не надо отделять второй его вид. Линия, которую мы видим, относится к реальному пространству, т. е. к пространству, в котором происходят все явления. Но и это пространство кажется нам всегда «одушевленным».
Я вижу, например, носящееся в воздухе тело. И я жду на основании предыдущего опыта, что оно упадет. В этом ожидании я переживаю стремление, активность. Но эта активность связана с тем, что я вижу или созерцаю. И я говорю о камне: он «стремится» к земле. И я это не только говорю, но я фактически чувствую это стремление в камне, т. е. я чувствую это стремление, связанным с ним, как нечто к нему относящееся.
Вместе с тем я чувствую эту силу стремления, как силу камня. И я называю ее в этом случае силой тяжести.
И если камень падает, то он этим «реализует» свое стремление или то, что вытекает из его силы. Падение, таким образом, есть «активность» камня, проявление его силы.
И если камень не падает, то я должен парализовать это стремление, противодействовать ему. И это противодействие тоже кажется связанным с камнем. И его я тоже чувствую в камне, когда я его созерцаю. Сам камень, таким образом, противодействует стремлению или тенденции падения. И это делает он с известной силой. Эта сила есть сила моего сопротивления. Но именно она и «объективируется».
И все лежащее наверху стремится вниз. Этой же тенденции подчинены и верхние части всего возвышающегося над землей, в них тоже проявляется «сила тяжести». И если возвышающееся не поддается этой силе тяжести, но продолжает возвышаться, то в этом проявляется его «активность», его сопротивление падению и сила этого сопротивления. Это также все объективировано.
Или же если я вижу движущееся в одном направлении тело, то я объективированием своих переживаний сообщаю ему стремление двигаться дальше в этом же направлении, т. е. я чувствую «в нем» это стремление. Это не что иное, как обусловленное опытом стремление мысленно заставить это тело двигаться дальше. Сила этого стремления, «сила инерции», есть объективированная сила.
Аналогичным образом я повсюду сообщаю природе стремления, активность и силы.
Но очевидно, что это только я сообщаю ей; очевидно, что то, что выражается словами «стремление», «сила», «активность» и т. д., — что все это я могу переживать или чувствовать только в себе и только из себя переносить на объекты. Во внешнем мире я нахожу только простое фактическое существование и изменение объектов.
Я вижу скалу, состоящую из различным образом расположенных частей, и я уверен, что эти ее части останутся в таком же положении даже при таких обстоятельствах, при которых части других предметов отделились бы друг от друга. Но я не вижу силы, связывающей их. Быть может, я чувствую тщетность моих усилий оторвать от скалы ее часть. Но тогда я именно чувствую мои усилия, мое стремление и неудачу. И я ничего не знаю о противоусилиях, производимых скалой.
Но всегда, когда я созерцаю природу, — всегда я, созерцающий с моей внутренней активностью, моими стремлениями, моим противодействием, моей деятельностью, моими тщетными или удачными стараниями, — всегда я необходимо нахожусь при природе или же в ней. Вследствие этого неизбежно ее одухотворение или очеловечивание. Объекты или явления природы очеловечиваются в созерцании или вследствие созерцания. Вне этого они не существуют для меня, т. е. для моего созерцания.
К этому нужно еще сделать важное дополнение: перенося на природу мои стремления и силы, я вместе с тем переношу на нее и те мои переживания, которые их сопровождают: мою гордость, мою отвагу, мою настойчивость, мое легкомыслие, мое спокойствие и пр. Этим эмпирическое объективирование обращается в полное эстетическое объективирование.
От очеловечивания, о котором здесь идет речь, нужно, конечно, отличать как принимающее более конкретные формы очеловечивание природы ребенком, так и мифологическое очеловечивание природы первобытными народами. В этих случаях общечеловеческое, совершающееся с психологической необходимостью, очеловечивание усиливается и пополняется фантазией. Но в основе и этого очеловечивания и одушевления лежит естественное и необходимое очеловечивание; это только его дальнейшее развитие и в известном смысле его последовательная разработка. С другой стороны, надо отметить, что естественнонаучные понятия силы, действия и т. д. свободны или должны быть по крайней мере свободны от такого очеловечивания. Но здесь идет речь не о естественных научных законах, но о том, что естественно испытывает всякий человек, спокойно созерцающий природу.

I. Современный мир можно видеть как мир специалистов. Всё важное в мире делается специалистами; а все неспециалисты заняты на подсобных работах — у этих же самых специалистов. Можно видеть и иначе — как мир владельцев этого мира; это более традиционная точка зрения. Но для понимания мира в аспектах его прогресса владельцев можно оставить за скобками. Как будет показано далее, самые глобальные, самые глубинные потоки мировых тенденций владельцы не направляют. Владельцы их только оседлывают и на них едут. II. Это социально-философское эссе о главном вызове, стоящем перед западной цивилизацией — о потере ее людьми изначальных человеческих качеств и изначальной человеческой целостности, то есть всего того, что позволило эту цивилизацию построить.
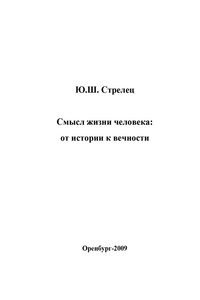
Монография посвящена исследованию главного вопроса философской антропологии – о смысле человеческой жизни, ответ на который важен не только в теоретическом, но и в практическом отношении: как «витаминный комплекс», необходимый для полноценного существования. В работе дан исторический обзор смысложизненных концепций, охватывающий период с древневосточной и античной мысли до современной. Смысл жизни исследуется в свете философии абсурда, в аспекте цели и ценности жизни, ее индивидуального и универсального содержания.
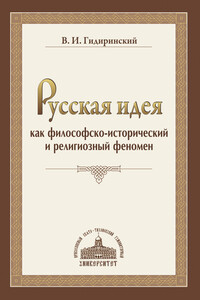
Данная работа является развитием и продолжением теоретических и концептуальных подходов к теме русской идеи, представленных в предыдущих работах автора. Основные положения работы опираются на наследие русской религиозной философии и философско-исторические воззрения ряда западных и отечественных мыслителей. Методологический замысел предполагает попытку инновационного анализа национальной идеи в контексте философии истории. В работе освещаются сущность, функции и типология национальных идей, система их детерминации, феномен национализма.
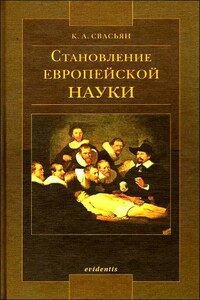
Первая часть книги "Становление европейской науки" посвящена истории общеевропейской культуры, причем в моментах, казалось бы, наиболее отдаленных от непосредственного феномена самой науки. По мнению автора, "все злоключения науки начались с того, что ее отделили от искусства, вытравляя из нее все личностное…". Вторая часть исследования посвящена собственно науке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Санкт-Петербург - город апостола, город царя, столица империи, колыбель революции... Неколебимо возвысившийся каменный город, но его камни лежат на зыбкой, болотной земле, под которой бездна. Множество теней блуждает по отражённому в вечности Парадизу; без счёта ушедших душ ищут на его камнях свои следы; голоса избранных до сих пор пробиваются и звучат сквозь время. Город, скроенный из фантастических имён и эпох, античных вилл и рассыпающихся трущоб, классической роскоши и постапокалиптических видений.
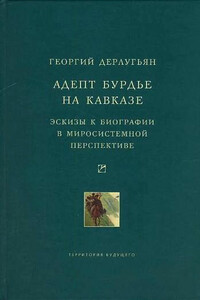
«Тысячелетие спустя после арабского географа X в. Аль-Масуци, обескураженно назвавшего Кавказ "Горой языков" эксперты самого различного профиля все еще пытаются сосчитать и понять экзотическое разнообразие региона. В отличие от них, Дерлугьян – сам уроженец региона, работающий ныне в Америке, – преодолевает экзотизацию и последовательно вписывает Кавказ в мировой контекст. Аналитически точно используя взятые у Бурдье довольно широкие категории социального капитала и субпролетариата, он показывает, как именно взрывался демографический коктейль местной оппозиционной интеллигенции и необразованной активной молодежи, оставшейся вне системы, как рушилась власть советского Левиафана».
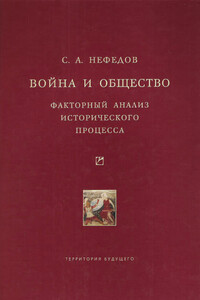
Монография посвящена анализу исторического процесса в странах Востока в контексте совокупного действия трех факторов: демографического, технологического и географического.Книга адресована специалистам-историкам, аспирантам и студентам вузов.
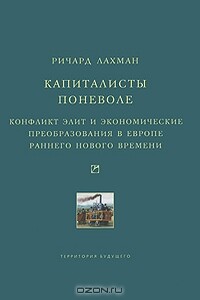
Ричард Лахман - профессор сравнительной, исторической и политической социологии Университета штата Нью-Йорк в Олбани (США). В настоящей книге, опираясь на новый синтез идей, взятых из марксистского классового анализа и теорий конфликта между элитами, предлагается убедительное исследование перехода от феодализма к капитализму в Западной Европе раннего Нового времени. Сравнивая историю регионов и городов Англии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов на протяжении нескольких столетий, автор показывает, как западноевропейские феодальные элиты (землевладельцы, духовенство, короли, чиновники), стремясь защитить свои привилегии от соперников, невольно способствовали созданию национальных государств и капиталистических рынков в эпоху после Реформации.
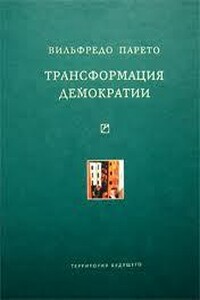
В своей работе «Трансформация демократии» выдающийся итальянский политический социолог Вильфредо Парето (1848–1923) показывает, как происходит эрозия власти центрального правительства и почему демократия может превращаться в плутократию, в которой заинтересованные группы используют правительство в качестве инструмента для получения собственной выгоды. В книгу также включен ряд поздних публицистических статей Парето.