Эстетика - [6]
Сообразно с этим уродливость есть прочувствованное в созерцании объекта отрицание жизни. Уродливое тоже становится уродливым только вследствие объективирования, но вследствие отрицательного объективирования. Это значит, что объект, мною созерцаемый, стремится возбудить во мне известную внутреннюю активность, противоречащую моим собственным потребностям и влечениям. Я ощущаю это стремление, но я ощущаю его как отрицание самого себя.
Остановимся еще немного на понятии объективирования, чтобы предупредить возможность ошибочного его понимания. Я чувствую, например, гордость при созерцании форм статуи, выражающей ее. Это не значит, что я как реальный, т. е. в реальном мире живущий, индивидуум, горд или чувствую себя гордым. Но это также не значит, что эту гордость я только мыслю или представляю и мысленно переношу на статую. Мнение, по которому мыслимый или представляемый психологический процесс может, будучи только мыслимым или представляемым, возбудить во мне чувство ценности, психологически несостоятельно. Оценивание мыслимого психического процесса есть оценивание мыслимой самоактивности. Но такое оценивание по своей сущности состоит в переживании оцененного, т. е. оно предполагает соответственную действительную самоактивность. Этим обнаруживается и ошибочность того утверждения, что будто бы эстетическая оценка есть чувство радости, вытекающее из «суждения», или предположения, или «фикции», что оцененный психический процесс имел место в действительности. Объективированная в статуе и эстетически оцененная гордость должна быть прочувствована и пережита. Напряженность этого переживания зависит от моей способности к эстетическим наслаждениям. Но эта гордость чувствуется не моим реальным «я», но лишь мною, посколько я созерцаю статую и, созерцая, в нее преображаюсь. Она является предикатом не моей личности или моего «я» вообще, но того «я», которое созерцает статую и, созерцая, в ней растворяется. Этот род чувства гордости не может быть отнесен ни к «действительным чувствам», ни к «воображаемым», но только к эстетическим, т. е. это совершенно своеобразное чувство, определяемое своим названием «объективированной гордости».
Еще важнее для меня следующее: когда я в жесте гордости положительно объективирую себя, я вместе с тем объективирую себя в человеке. Я чувствую гордость как гордость человека, который в гордости проявляет свою человеческую активность, т. е. проявляет нечто положительное, какую-то свою силу. Таким образом, когда я переживаю гордость, я чувствую себя человеком — опять-таки не человеком вообще, но человеком, созерцательно перевоплотившимся в статую, и только таковым.
Перейдем от этого случая к совершенно, по-видимому, другому. Я предполагаю теперь, что какое-нибудь скульптурное произведение выражает не гордость, но печаль, подавленность, отчаяние, но опять-таки человеческую печаль, человеческое отчаяние, т. е. отчаяние, проявляемое «человеком», внутренно реагирующим на то, что его давит, причем это реагирование является вполне естественным. В этом случае я чувствую печаль, я переживаю этот горестный аффект. Но и теперь я переживаю или чувствую человека и себя — как человека. Это, конечно, опять не значит, что я как реальный, в реальном мире живущий, индивидуум опечален или чувствую себя опечаленным и чувствую при этом себя человеком, но это значит только то, что я опечален и чувствую себя человеком только в созерцании жеста печали. Это созерцательно перевоплощающееся «я», и только оно тут чувствует и переживает.
Но когда я чувствую себя человеком, я в обоих тут описанных случаях переживаю радостное чувство «человечности» и ее значения, короче говоря, я переживаю чувство ценности человека. Я чувствую эту ценность в себе, но вместе с тем я ее чувствую объективированной. Это чувство радости в первом случае приятно, во втором — болезненно. Но в обоих случаях это чувство радости или удовольствия. И это чувство радости самое высокое и убедительное чувство. Это чувство «эстетической симпатии».
Эстетическая симпатия — общая основа всякого эстетического наслаждения. Она может иметь место независимо от того, радостно или печально мое непосредственное восприятие. Она может иметь место, как мы видели, и в радостном чувстве гордости, и в горестном чувстве печали. Ее необходимым условием является только возможность положительного объективирования. А это последнее возможно только тогда, когда то, что должно объективироваться, в каком-нибудь отношении положительно.
О трагедии говорили, что она обогащает наше представление о человеке. Заменив слово «представление» — «чувством» или «непосредственным переживанием» — и понимая под понятием «человека» все положительно человеческое, мы выразим в этом положении сущность эстетического наслаждения.
Эта радость симпатии не только всегда вызывается эстетическим созерцанием, но в своем чистом виде она даже только в эстетическом созерцании и возможна. В повседневной жизни «человек» во мне всегда более или менее затемнен; он затушеван моим характером, настроениями, реальными интересами жизни. От всего этого я свободен в чистом эстетическом созерцании; в нем — я, только это созерцающее «я». И свободное от реальной жизни «я» этого чистого «человека» я могу утвердить в эстетически созерцаемом объекте, и в этом утверждении я могу себя чувствовать осчастливленным.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опубликовано в монографии: «Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте». М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 522–572.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Приведены отрывки из работ философов и историков науки XX века, в которых отражены основные проблемы методологии и истории науки. Предназначено для аспирантов, соискателей и магистров, изучающих историю, философию и методологию науки.

С 1947 года Кришнамурти, приезжая в Индию, регулярно встречался с группой людей, воспитывавшихся в самых разнообразных условиях культуры и дисциплины, с интеллигентами, политическими деятелями, художниками, саньяси; их беседы проходили в виде диалогов. Беседы не ограничиваются лишь вопросами и ответами: они представляют собой исследование структуры и природы сознания, изучение ума, его движения, его границ и того, что лежит за этими границами. В них обнаруживается и особый подход к вопросу о духовном преображении.Простым языком раскрывается природа двойственности и состояния ее отсутствия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
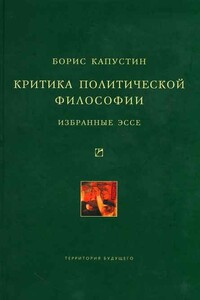
В книге собраны статьи по актуальным вопросам политической теории, которые находятся в центре дискуссий отечественных и зарубежных философов и обществоведов. Автор книги предпринимает попытку переосмысления таких категорий политической философии, как гражданское общество, цивилизация, политическое насилие, революция, национализм. В историко-философских статьях сборника исследуются генезис и пути развития основных идейных течений современности, прежде всего – либерализма. Особое место занимает цикл эссе, посвященных теоретическим проблемам морали и моральному измерению политической жизни.Книга имеет полемический характер и предназначена всем, кто стремится понять политику как нечто более возвышенное и трагическое, чем пиар, политтехнологии и, по выражению Гарольда Лассвелла, определение того, «кто получит что, когда и как».
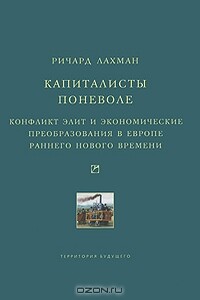
Ричард Лахман - профессор сравнительной, исторической и политической социологии Университета штата Нью-Йорк в Олбани (США). В настоящей книге, опираясь на новый синтез идей, взятых из марксистского классового анализа и теорий конфликта между элитами, предлагается убедительное исследование перехода от феодализма к капитализму в Западной Европе раннего Нового времени. Сравнивая историю регионов и городов Англии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов на протяжении нескольких столетий, автор показывает, как западноевропейские феодальные элиты (землевладельцы, духовенство, короли, чиновники), стремясь защитить свои привилегии от соперников, невольно способствовали созданию национальных государств и капиталистических рынков в эпоху после Реформации.
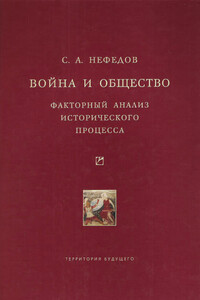
Монография посвящена анализу исторического процесса в странах Востока в контексте совокупного действия трех факторов: демографического, технологического и географического.Книга адресована специалистам-историкам, аспирантам и студентам вузов.
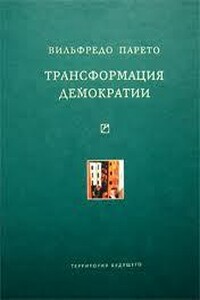
В своей работе «Трансформация демократии» выдающийся итальянский политический социолог Вильфредо Парето (1848–1923) показывает, как происходит эрозия власти центрального правительства и почему демократия может превращаться в плутократию, в которой заинтересованные группы используют правительство в качестве инструмента для получения собственной выгоды. В книгу также включен ряд поздних публицистических статей Парето.