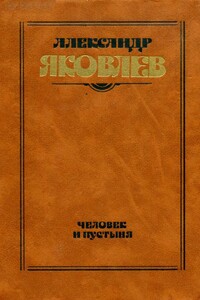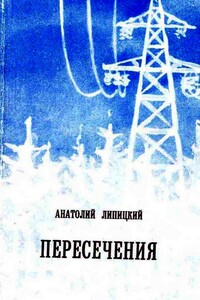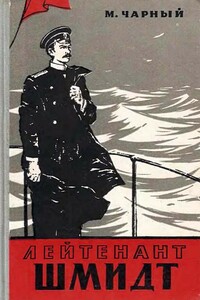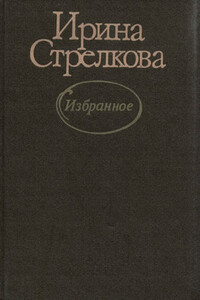Я взялась за уроки. Но, прислушиваясь к их оживленным голосам, думала, что даже там, на кухне, вдвоем им лучше, чем здесь, когда нас трое.
Лишней я себя почувствовала и на концерте. Наверно, я не очень понимаю музыку. Вместо того, чтобы слушать ее, я люблю наблюдать за соседями.
Вот мой сосед справа. Совсем седой старик. Закрыв глаза, чуть-чуть качает он головой в такт музыке. О чем он думает? Почему один? И почему вдруг вот теперь, когда так нежно, едва слышно поют скрипки, он облокотился на ручку кресла, прикрыл глаза рукой? С какими воспоминаниями связано у него это место?
А папа и Тоня? О чем им говорит музыка?
Они сидели, немножко повернувшись друг к другу. То и дело встречались глазами. Иногда папа пожимал Тонин локоть, и она движением ресниц отвечала ему: «Да, да, я помню! Я чувствую то же, что и ты».
В антракте они вспоминали лето и концерт на открытой эстраде.
— Помнишь, как осыпались лепестки с жасмина?— спросил папа.— Мы сидели у самой живой изгороди…
— Да. И ты сорвал мне маленькую, вот такую веточку — всего в два цветка. Как от них пахло!
— А от листьев пахло свежим огурцом…
— И нам страшно захотелось есть…
Они вспоминали свое, навеянное музыкой. Мне она ни о чем не говорила.
Тоня первая заметила мое молчание.
— Пойдемте на той неделе в оперу,— оборвав воспоминания, предложила она.— Рута, ты любишь «Демона»?[2]
— Люблю.
— Какая ария тебе больше всех нравится?
— «Не плачь, дитя, не плачь напрасно…»
Они многозначительно переглянулись и оба опустили глаза. Они не так меня поняли. Они подумали, что я вспомнила маму. А я ни о чем не вспоминала в ту минуту, когда отвечала. Просто я в самом деле очень люблю эту арию. Я любила ее всегда.
Все второе отделение папа сидел очень прямой. Глядел перед собой, на оркестр. И иногда, как тот седой мой сосед справа, прикрывал глаза и покачивал головой. Он думал о маме. Наверно, упрекал себя, что так скоро забыл ее.
Грустная тень лежала на лице Тони.
Не будь меня, они помнили бы только о том вечере, когда начиналась их любовь, когда беззвучно слетали с кустов жасмина белые лепестки.
Разве они виноваты, что мама умерла? Разве это плохо, что папа снова начал напевать во время работы?
«Как же мне быть?»— думала я. И оркестр тоже спрашивал: «Да, как же быть?» — и шумно, горестно вздыхал: «Не знаю, Рута, не знаю…»
Конечно, можно больше не ходить вместе ни на концерты, ни в театр. Но тогда папа, вспоминая, что я одна сижу дома, все равно будет упрекать себя. И Тоня тоже.
С тех пор, как Тоня поселилась у нас, я после уроков опрометью летела домой. Дома, с ними, мне хорошо. Но хорошо ли им со мною? Конечно же, вдвоем им лучше.
А выпускной класс не шутка. Мне надо много заниматься. Почти все вечера я сижу дома за уроками. И они никогда не бывают вдвоем.
Так как же быть?
Мы, выпускники, часто обсуждали, куда идти учиться дальше. Мальчишки, те давно решили, кто куда пойдет. А я все никак не могла понять, что мне нравится, кем я хочу стать. Допустим, врачом. Очень благородная профессия. Но от вида крови у меня сжимается сердце. Агрономом? Но я даже на подоконнике ни одного цветочка не вырастила. Химиком? Модная профессия. Но я терпеть не могу, не понимаю я химию.
Не я одна была такой «неопределившейся». И почему-то все мы решили поступать на литературный факультет.
А пока что я пристрастилась шить. Тоня привезла свою машину со странным названием «Тикка»[3]. Машина была кремовая, с никелированными деталями. Шила удивительно легко, совсем беззвучно.
С помощью Тони я сшила себе блузку. Она-то и заставила меня задуматься: а правильно ли я делаю, что собираюсь поступать на литературный?
Вот как это получилось.
Пришла из школы. Папа и Тоня на работе. Решила закончить блузку — прометать петли. Понадобился сантиметр.
Швейные принадлежности хранятся у Тони в чемоданчике. Я раскрыла его. Сверху лежала голубая пушистая фланель. Развернула ее и ахнула: Тоня шила малюсенькие вещи — чепчики, рубашечки…
Я бережно сложила шитье, убрала чемоданчик. Села на диван и как-то совсем по-другому, чем раньше, оглядела нашу комнату.
Кровать, мой диван, шкаф, стол, этажерка, Тонина машина… А куда поставить кроватку? Папа как-то сказал, что подал заявление на квартиру.
— Дадут, но не так скоро. Скоро не обещали,— вздохнул он тогда.
— Ну, ничего…— Тоня тоже вздохнула.
Вот почему они вздыхали! Теперь я припоминала подробности разговора о новой квартире.
— Не успевают строить,— говорил папа, словно оправдывался.— Кадров, наверно, строительных не хватает.
Много строек у нас в Риге. И на каждом ограждающем стройку заборе, припомнила я, висит выцветшая доска с размытыми огромными, взывающими словами: «Требуются!»
Так для чего же мне становиться литератором? Ведь даже тетя Анна как-то сказала нам со Скайдрите:
— Дался вам этот литературный! Окончите и насидитесь, чего доброго, без работы.
Вот ведь оно как оказывается: литераторов хватает, а строители требуются. Так и стояла у меня перед глазами доска с этим словом.
А что самое важное для такой, как я, «неопределившейся»? Чтоб профессия была нужна. Строить будут всегда. Это точно. Так почему бы мне не стать строителем?