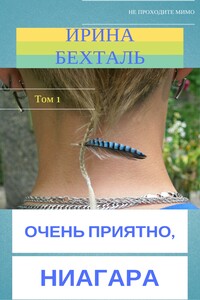Эшлиман оказался жив и спросил:
— Слушай, Петь, а, правда, все это? Ну, про врата ваши католические и про ключ?
— Все в натуре, — ответил апостол Петр, — и врата, и рай, и ключ. Ты как мыслишь, почему я отлучился?
— Может, смена не твоя? — предположил Эшлиман.
— Смена всегда моя, — угрюмо ответил апостол Петр, снова налив, выпив и задышав рукавом. — Только врата открывать некому.
— Это как же? — Эшлиман забеспокоился. — В рай, что ли, пускать перестали?
— Пускать не перестали, да не приходит никто. Видно, добираться трудно стало.
— А, правда, что к вашим вратам католическим по лестнице забираются?
— По лестнице, — сухо подтвердил апостол Петр. — Ты лучше посмотри, может у тебя заначка какая осталась?
Эшлиман пошарил по карманам, нашел случайную бумажную денежку и отдал ее Петру.
— Благодарствую, — степенно поблагодарил апостол и пятерней расчесал бороду.
— А ступеньки, какие на вашей лестнице — деревянные или так, из веревок?
— Ступеньки из добродетелей сплетены, — сурово объяснил апостол Петр. — Вот и перевелись клиенты добродетельные, и врата отпирать некому.
— Жаль, что из добродетелей сплетены, — смиренно проговорил Эшлиман. — А то слазил бы, посмотрел.
Принял Эшлиман с расстройства еще стаканчик золотого сечения — и вдохновенно разъехавшимися глазами усмотрел в кабаке инструмент, очевидно, не нашего времени. И добрался до него, и опустил руки на клавиши.
Эшлиман был гений, и Бах был гений, и Леонардо с Петром были гениями, но рижские моряки были моряками и не желали Баха. Поэтому Эшлиман, чьим языком была гармония, сымпровизировал канкан на тему прелюдии До-минор. Рижские моряки, плясавшие с вороном, оценили гармонии Эшлимана отборным русским матом.
— Он полиглот, этот ворон, даже по-русски может, — заметил апостол Петр с уважением.
— Да, да, — согласился Эшлиман, перегибаясь с вершин контрапункта, — у нас в России все полиглоты, все матом могут.
Потом пришли девушки и почему-то тихо полезли под стол, а ворон взлетел на стойку к бармену и заклевал национальный напиток солеными арахисовыми орешками. Рижские моряки не сдались и полегли один за другим.
Небеса гармонии простирались бездонно, и Эшлиман поднимался все выше и выше, пока не взлетел ворон, не поймал его за штанину и не сбросил вниз, ударив с маху о горькую землю.
Очнувшись, Эшлиман отплевался и обнаружил себя перед запертой дверью. Но сколько он не пытался ее открыть, ничего не получалось. Ключ не входил в скважину и тогда Эшлиман понял, что в руках его ключ апостола Петра, который подходит лишь к райским вратам. От неожиданности Эшлиман опустился на каменные ступени и затих, внимательно рассматривая резной, древний ключ.
Ломило разбитую челюсть, захлебывалось сердце и казалось Эшлиману, что его больше не существует. Но в трясущихся руках Эшлимана был крепко зажат ключ от райских врат, куда шли за ним дети.
А шли они — из каталажки, следом за уже успевшим поправиться арестантом Эшлиманом. И вернулись они к забору, оградившему родную Эшлимановку, сквозь которую небеса просматривались.
— Не, ребята, — сказал Эшлиман, и уселся у забора прямо под небесами. — Не могу больше. Пойду-ка, Тутанхамона растолкаю.
— Ты как дойдёшь-то? — ребята спрашивают.
— Так недалёко, — отвечает Эшлиман.
Пожевал мумиё и побрёл к ближайшей пирамидке, где Тутанхамон ютился. Извлёк его из ящика, растолкал и озадачился: «Эк, тряпок-то на тебя понавешали!» Размотал кое-как Тутанхамона, трёшку в бинты запихнул и напутствовал:
— Иди-ка ты, пацан, погуляй, а я отдохну.
Вот и лежит Эшлиман, отдыхает. И то, что мы за Тутанхамона держим — это, что ни на есть, Эшлиман. А Тутанхамон — тот гуляет