Дю Геклен - [4]
Густонаселенная сельская местность
Бретань в 1320-х годах была относительно спокойным и процветающим регионом. В течение более чем столетия ни одна серьезная катастрофа не потревожила эту слегка холмистую, открытую местность, которая еще не была покрыта небольшими рощами. Повсюду преобладала система обширных полей с ее общинными методами обработки, перемежавшаяся обширными лесами. В течение многих лет эти леса были и укрытием, и местом подвигов Дю Геклена. Они, конечно, поредели со времен раннего Средневековья, но во внутренних районах полуострова все еще сохранились обширные лесные массивы: леса Хардуин, Лудеак, Кинтен, Лануэ, Паимпон и Хермитаж, которые являлись остатками древнего леса Броселианда, усеянного мегалитами и воспоминаниями о Мерлине и Вивьен. Лес Лудеак до сих пор занимает 20.000 гектаров; на западе другие лесные массивы, такие как Уэльгоат, продолжают его вместе с болотами Арре и Монтань-Нуар. Независимо от того, были ли это сеньориальные или герцогские леса, они были далеко не безлюдными. Там работали и жили гончары, стеклодувы и металлурги; крестьяне собирали дикие фрукты и разводили свиней: в 1385 году в сеньориальных счетах упоминается, например, 3.485 свиней в лесу Ла Герш. В лесных хижинах жили сапожники, печники и угольщики, там же охотились браконьеры, и все вместе они собирали дрова. В лесах пронизанных просеками, болотами, прудами, иногда располагались усадьбы местных сеньоров, как в Компере или Трессоне, в лесу Паимпон.
В начале XIV века Бретань была густо населена. К 1320 году бретонцы не пережили ни голода, ни эпидемий. Вероятно, территория даже достигли максимального количества жителей, которое могла выдержать экономика того времени: некоторые люди уже были вынуждены эмигрировать в соседние провинции и в Париж, обеспечивая специализированные рабочие контингенты, такие как землекопы Ламбаля, а вскоре и наемных солдат. Имущество и земельная собственность дробилась между наследниками, ставя крестьян и мелких дворян в затруднительное положение. Первые цифры подтверждающие это явление, к сожалению, относятся к концу века, после Черной смерти и гражданских и внешних войн. Они основаны на налоговых регистрах, в которых перечислены "очаги" или домохозяйства. Если взять усредненную цифру в пять человек на очаг, то общая численность населения герцогства в 1392 году составила бы 1.250.000 человек. Если мы предположим, что численность населения около 1320 года составляла от 1.300.000 до 1.400.000 человек, это будет близко к истине. Плотность населения составляла такими образом 40 жителей на км², что было очень много. На побережье эта плотность, вероятно, превышала 50 жителей на км², но контраст между Армором (побережье) и Аргоатом (внутренние районы) был гораздо менее разителен, чем сегодня.
Население было разбросано по множеству хуторов, расположенных в основном вблизи побережья. На малопродуктивных землях внутренних районов, где часто практиковался двухгодичный севооборот в сочетании с выпасом овец и коз, урожаи были невелики. В более плодородном бассейне реки Ренн разведение крупного рогатого скота велось довольно интенсивно. На побережье выращивание овощей и четырехлетний севооборот зерновых создавали впечатление изобильности. Выращивание винограда культивировались повсюду, по нижнему течению реки Луары, а также в пригородах Ванна, Витре, Ренна и на склонах Ранса. На ручьях были установлены водяные мельницы, появились ветряные мельницы: об одной из них сообщается в Поммерете, недалеко от Сен-Брие, в 1319 году. Ремесленное производство, которое обеспечивало своей продукцией, сельскую местность присутствовало повсеместно, а изготовление текстиля (из конопли) даже позволяло осуществлять некоторый экспорт. На возделываемых полях преобладала "крупная пшеница" (пшеница, ячмень, рожь, овес) и то, что в государственных счетах называлось "мелкой пшеницей" (бобовые, фасоль и горох), причем в прибрежной зоне урожайность была намного выше.
Урбанистический бум
Города Бретани были маленькими и редкими: доля городских жителей оценивается в 6,5 %, или 80.000 — 85.000 человек суммарно. Большинство городов имели менее 5.000 жителей, как показала работа Ж.-П. Легуэ: 3.000 в Морле, 4.000 в Генгаме, Фужере, Геранде, 5.000 в Ванне, 1.700 в Ламбалле, 1.200 в Бресте, 1.000 в Оре, 900 в Эннебоне. Два крупных города Ренн и Нант имели 13.000 и 14.000 жителей соответственно .
Большинство городов имели укрепления. В XIII веке были проведены масштабные работы по модернизации городских стен, чтобы обновить оборонительные сооружения и охватить стенами новые пригородные районы, возникшие в результате роста городов. Герцоги, а также крупные бретонские феодалы стояли у истоков этой волны военного строительства: виконты Роган возводили крепостные стены в Ла-Шезе, Понтиви и Рогане; бароны Фужер, сеньоры Ре, Малеструа, Пон-л'Аббе и Клиссон, епископы Доля, Кемпера, Сен-Мало и Ванна — все они возводили стены и укрепления. В Нанте галло-римская стена была расширена, и теперь город, обнесенный стеной, занимал двадцать четыре гектара. В Ренне также была восстановлена галло-римская стена, которую укрепили шестью башнями, соединенными куртинами. Однако длительный период мира, последовавший за возведением этих сооружений, не способствовал их сохранности. К 1320 году большинство городских защитных сооружений обветшало и, прежде всего, утонуло в гражданских постройках из-за роста пригородов.
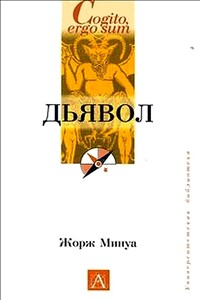
Фигура дьявола на протяжении столетий занимает свое особое место в духовном мировосприятии человека. В работе предлагается исследование зарождения и исторической эволюции этого феномена в соотнесении с социальными, религиозными и культурными последствиями. Колдовство и экзорцизм, громкие процессы над ведьмами с обязательными пытками и эротическим подтекстом — непременные атрибуты данного явления. Попытки осмысления современной роли сатанизма, его психологическая и социологическая интерпретация завершают исследование.
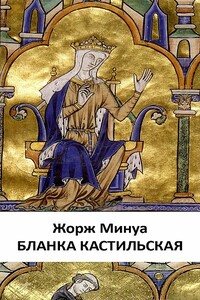
"Бланка Кастильская, мать Людовика Святого": именно такой упрощенный образ сохранила коллективная память об этой королеве XIII века, забыв, что она была женщиной-правительницей с исключительной судьбой, как и ее бабушка, Элеонора Аквитанская. Бланка, дочь короля Альфонсо VIII Кастильского и Элеоноры Английской, родилась в 1188 году, в возрасте двенадцати лет вышла замуж за французского принца Людовика и получила политическое образование при дворе своего грозного свекра Филиппа II Августа. Она стала королевой в 1223 году, матерью двенадцати детей, овдовела в возрасте тридцати восьми лет после смерти своего мужа Людовика VIII и стала регентом королевства от имени своего юного сына Людовика IX.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.