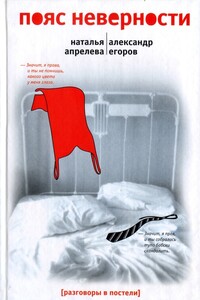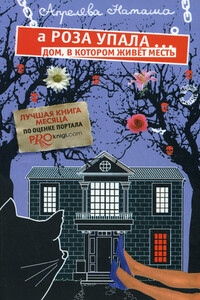Волосы, на удивление густые, живые, с редкой проседью, стянуты на затылке аптечной резинкой. Шея короткая, толстая, с дряблым вторым подбородком. Руки полные и рыхлые, в паутинке мелких морщин.
Сумка изношенная – вся. Облупленные углы, ободранное днище, грязные, обтрепанные ручки. Какая-то кипа перевязанных бечевкой бумаг – справки, счета, квитанции почтовых переводов, копии документов – линялые, оборванные, засаленные. Футляр для очков, пустые упаковки таблеток, ручка. Скомканный носовой платок.
– Марья Дмитриевна, Марья Дмитриевна!
Она умела смеяться тихим ласковым голосом. Хотелось сгрести ее в объятия и не отпускать. Чтобы сидела, свернувшись клубочком, и дышала в ключицу. Родная, родная.
Где-то там, далеко, остались все – никчемные мужья, жаркие любовники. Замелькавшиеся ночи, беспробудные дни.
Иногда всплывает в памяти женское лицо – глаза, поутру серые, а вечерами уходящие в густую синь.
Мальчик – длинные локоны цвета льна, розовые щечки.
Обернутая черной шелковой лентой большая фотография на стене – чья?
И кто-то еще – темный, гадкий, с высоко занесенной грубой пятерней. Она останавливается, пытается вспомнить… Нет, не вспомнит.
– Марья Дмитриевна, Марья Дмитриевна!
Нежным янтарным по матово-белому и яблочным зеленым – на излете – там, куда она однажды придет. Чтобы обняли, прижали к груди, умыли тело, омыли душу. Уложили отдыхать на двойную радугу.
Как же долго мы вас, Марья Дмитриевна, ждали. Как хорошо, что вы к нам наконец пришли!