Две повести. Терунешь. Аска Мариам - [3]
III
Однажды день выдался на рѣдкость жаркiй. Ни вѣтерка, ни струи какой-нибудь прохладной, чтобы облегчить изнемогающее тѣло. Савурэ и знатный абиссинецъ Ато-Абарра сидятъ у меня за прилавкомъ, и мы допиваемъ третiй самоваръ. Потъ льетъ съ меня градомъ, мои гости тоже порядкомъ упарились.
— Э-эхъ, московъ! — дружелюбно хлопая меня по плечу, говорить сухой и темный, съ красивой черной бородкой Абарра: — все хорошо у тебя, а только некому хозяйствомъ твоимъ править. Тэчь у тебя плохъ, инжира суховата. Надо тебѣ жениться!
Это предложенiе приводитъ Савурэ въ необыкновенный восторгъ.
Его полное лицо покрывается тысячью мелкихъ морщинь, а маленькiе глазки совершенно сжимаются и становятся узкими и влажными.
— Мосье, мосье! — восклицаетъ онъ, захлебываясь: — femme малькамъ. Харошъ, очень харошъ.[7]
Ему вторить и Абарра. Оба они находятъ мое положенiе весьма комичнымъ, и Абарра начинаетъ мнѣ перечислять тысячи выгодъ, которыя я буду имѣть, если женюсь.
— Она будетъ печь инжиру… готовить тэчь, бранить слугъ, считать куръ, стирать бѣлье, мазать глиной домъ, толочь зерно, ткать пряжу, чистить ружья … она будетъ любить тебя….
— О-о-о-э, — взвизгиваетъ Савурэ: — она будетъ любить тебя. Малькамъ! Очень харошъ!
— Ты возьмешь молодую абиссинку изъ хорошаго дома, и ты станешь совсѣмъ абиссинцемъ.
— Совершеннымъ абиссинцемъ, — повторяетъ Савурэ и протягиваетъ къ самовару свой допитый стаканъ.
Я наливаю ему, себѣ и Абарра чаю, подливаю сквернаго, пахучаго англiйскаго рома, и мы на нѣкоторое время погружаемся въ молчаливое созерцанiе полныхъ стакановъ. Въ моей лавкѣ температура становится невозможной, но на воздухѣ еще хуже, паритъ и ломитъ всѣ кости отъ жары. Я ложусь на скамьѣ, покрытой шкурой леопарда, моему примѣру слѣдуютъ и гости. Ромъ, котораго въ избыткѣ хватилъ Абарра, клонитъ его ко сну, и онъ клюетъ носомъ. Савурэ мурлычетъ какую-то пѣсню по-французски, а я размышляю…..
Абиссинки и галласски, всѣ тѣ женщины, которыхъ я видѣлъ на пути отъ Харара до Аддисъ-Абебы, сомалiйки и данакили пустыни, мелькаютъ передо много, то полными обнаженными, черными, какъ эбеновое дерево, торсами, то худыми костистыми плечами, выдающимися изъ-подъ грязныхъ тряпокъ, то пестрыми платками и шалями, бусами и кольцами, и темными выразительными глазами. Сквозь эту вереницу черныхъ и коричневыхъ лицъ встаетъ на секунду блѣдное, грустное личико моей Ани съ простыми синими глазами, въ которыхъ свѣтится безысходная тоска и грусть, встаетъ и заслоняется туманной дымкой пространства: морей, рѣкъ и горъ, отдѣляющихъ меня отъ Россiи. Я пытаюсь возобновить въ памяти всѣ тѣ хребты, которые мнѣ пришлось перевалить, и путаюсь въ самомъ началѣ. И снова темныя женщины окружаютъ меня.
Я смотрю на дремлющаго Савурэ, на спящаго во всю Абарра, смотрю на свою лавку, на просторную комнату сзади нея, и мнѣ начинаетъ казаться, что жениться на абиссинкѣ было бы не дурно. Я гоню эту мысль, но она не уходитъ отъ меня, и я не могу уже отъ нея отдѣлаться.
IV
Выла суббота. На аддисъ-абебскомъ базарѣ — «габайѣ«, собралось тысячъ до пяти народа.
На обширномъ склонѣ холма, вершина котораго была занята магазинами негуса, окруженными частоколомъ, торговцы и торговки разложили свой товаръ. На вышкѣ сидѣлъ начальникъ, «шумъ» базара, и наблюдалъ за порядкомъ. Оставивъ мула внизу у моего прiятеля Савурэ, я вдвоемъ со слугою толкался среди темной толпы, покрывавшей площадь. Торговцы разложили свой товаръ прямо на землѣ. Тутъ были и громадныя груды готовыхъ блиновъ инжиры, наложенныя на круглыя соломенныя корзиночки, и красный перецъ, натолченный мелкимъ порошкомъ, и зерна дурры, и мука, и куски каменной соли, обточенной брусками и употребляемой вмѣсто денегъ, и пузатыя гомбы съ тэчемъ и листья хмельнаго «геша», и головки чеснока и доски толщиною въ четыре дюйма, и жерди, и бамбукъ, и сахарный тростникъ, и солома, и ячмень, и даже верблюжiй пометъ, употребляемый вмѣсто топлива. Тутъ продавали муловъ, и покупатели катались на нихъ взадъ и впередъ, пробуя ихъ проѣздъ или съ криками пуская вскачь. Тамъ кавалеристы въ бѣлыхъ плащахъ, размахивая ногами и хлопая локтями, скакали, выхваляя силу и рѣзвость своихъ коней. Крикъ, гомонъ, споры, абиссинская рѣчь, перемѣшанная съ гортаннымъ говоромъ галласовъ, криками сомалей-полицейскихъ, прогуливающихся среди толпы въ синихъ итальянскихъ плащахъ, и возгласами худыхъ скелетообразныхъ данакилей, разлегшихся возлѣ каравана верблюдовъ, вытянувшихъ свои, морды наполняли площадь.
Геразмачъ, тысяченачальникъ, предшествуемый двумя слугами, изъ которыхъ одинъ несъ его двуствольное ружье, а другой — раззолоченный узорчатый, круглый щитъ, ѣдетъ на мулѣ въ богатомъ наборѣ и помахиваетъ надъ головами разступающейся толпы тонкой жердью. Надъ черными курчавыми волосами его поднимаются золотистыя пряди львиной гривы, огненнымъ вѣнцомъ окружающей лобъ и придающей ему дикiй, но красивый видъ; пестрый боевой плащъ и леопардовая шкура мотаются по плечамъ его, поверхъ бѣлоснѣжной шамы и бѣлой тонкой рубашки, стянутой краснымъ шагреневымъ патронташемъ. Сѣдло накрыто богатымъ суконнымъ чепракомъ, расшитымъ разноцвѣтными шелками. Сзади него бѣжитъ босоногая толпа ашкеровъ въ грязнобѣлыхъ рубахахъ, съ кожанными патронташами на поясѣ и ружьями на плечахъ. Толпа разступается передъ нимъ, иные кланяются, иные спѣшатъ очистить дорогу….
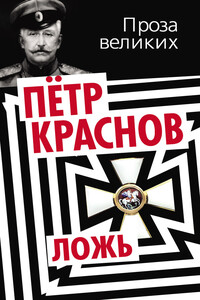
Автобиографический роман генерала Русской Императорской армии, атамана Всевеликого войска Донского Петра Николаевича Краснова «Ложь» (1936 г.), в котором он предрек свою судьбу и трагическую гибель!В хаосе революции белый генерал стал игрушкой в руках масонов, обманом был схвачен агентами НКВД и вывезен в Советскую страну для свершения жестокого показательного «правосудия»…Сразу после выхода в Париже роман «Ложь» был объявлен в СССР пропагандистским произведением и больше не издавался. Впервые выходит в России!

Краснов Петр Николаевич (1869–1947), профессиональный военный, прозаик, историк. За границей Краснов опубликовал много рассказов, мемуаров и историко-публицистических произведений.

Роман «С Ермаком на Сибирь» посвящен предыстории знаменитого похода, его причинам, а также самому героическому — без преувеличения! — деянию эпохи: открытию для России великого и богатейшего края.
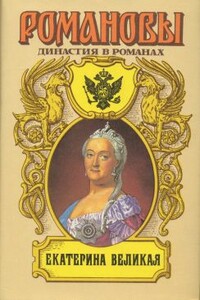
Екатерининская эпоха привлекала и привлекает к себе внимание историков, романистов, художников. В ней особенно ярко и причудливо переплелись характерные черты восемнадцатого столетия – широкие государственные замыслы и фаворитизм, расцвет наук и искусств и придворные интриги. Это было время изуверств Салтычихи и подвигов Румянцева и Суворова, время буйной стихии Пугачёвщины…В том вошли произведения:Bс. H. Иванов – Императрица ФикеП. Н. Краснов – Екатерина ВеликаяЕ. А. Сапиас – Петровские дни.

Роман замечательного русского писателя-реалиста, видного деятеля Белого движения и казачьего генерала П.Н.Краснова основан на реальных событиях — прежде всего, на преступлении, имевшем место в Киеве в 1911 году и всколыхнувшем общественную жизнь всей России. Он имеет черты как политического детектива, так и «женского» любовно-психологического романа. Рисуя офицерскую среду и жизнь различных слоев общества, писатель глубиной безпощадного анализа причин и следствий происходящего, широтой охвата действительности превосходит более известные нам произведения популярных писателей конца XIX-начала ХХ вв.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.