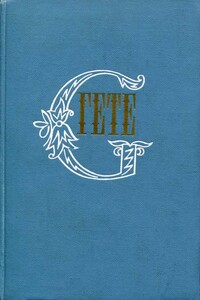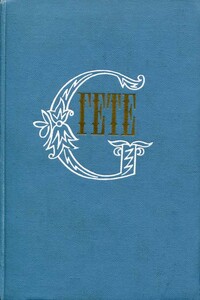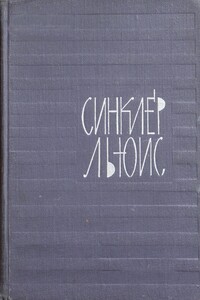Ласковые декадентские хозяева, кажется, долго шарили и искали и, наконец, собрали из всех углов своих и выставили в две или три залы огромную массу всякого сора: самомалейшие эскизы, наброски, чертежи К. Сомова, точно все это в самом деле — что-то замечательное, всем нужное и важное. Но хлам останется для всех непроходимым хламом, как ни распинайся за него все декадентство гуртом: он только гонит прочь от себя зрителя. Этот уходит совершенно выведенный из терпения.
Товарищ К. Сомова г. Врубель уже много лет назад устроил себе, собственными руками, страшную репутацию: репутацию художника, совершенно лишенного смысла и способного писать на своих холстах или фресках сюжеты, решительно ничего не имеющие общего с человеческим рассудком и вкусом. Ничто действительное, существующее в действительности, до него не касается: ему нужно и доступно только все то, где нет уже ни единой черточки натуры, жизни, правдивости. Он рисовать вовсе не умеет и не способен, и потому первая его забота: исковеркать своими рисунками каждую форму, каждый организм, каждую фигуру, каждую руку и ногу, глаз, лицо. Все должно стать у него тотчас же чем-то таким гадким, безобразным и безумным, как это только в больнице и бывает. Все у него выдумки и уродливый каприз. Весь ум, какой у него есть, вся его голова, все его формы — ортопедические, требующие только одного: сострадания и лечения. Никому, кажется, на всем свете нет такой нужды в «Демоне», как ему, это самый любимый его сюжет, он ему всего дороже. С этим «Демоном» он весь век только и возился и излагал на сто разных манеров: и сидя, и лежа, и стоя, и прямо, и боком, как только в мрачное и судорожное воображение его войдет. Ему приходилось писать иногда портреты молодых, красивых, грациозных женщин: под его кистью они тотчас становились окостенелыми, противными, мерзлыми чучелами в красках и тонах, позорящих природу. Чего только ни пробовал на своем веку рисовать и писать Врубель: и сцены из священной истории, и русские сказки, и пейзажи, и классические сюжеты — всего этого немало и на нынешней выставке: здесь есть и «Богоматерь у гроба Христа», и «Воскресение Христово», и «Ангел со свечой», и «Тридцать три богатыря», и «Садко», и «Микула Селянинович», и «Царевич Гвидон», и несколько «Демонов», и театральные занавеси, и проекты камина, всего тридцать шесть произведений, но между ними разницы нет, везде налицо прежде всего: расстроенное воображение, бессмыслица и отвратительные формы. По счастью, здесь нет ни его театральной занавеси Мамонтовского театра в Москве («Орфей среди пейзажа»), нет тоже и его «Сатира» — и это большой выигрыш для несчастного зрителя. Двумя вопиющими уродствами перед ним меньше.
Единственная заслуга Врубеля в деле искусства: некоторая способность довольно красивой, красочной и даже своеобразной орнаментации из листьев, цветов, веточек и гирлянд. Он проявил ее местами на стенах Владимирского собора в Киеве, но даже и тут он поминутно нарушает, что придумает хорошего, вопиющими скачками нелепости и безобразия.
Из числа новейших декадентов г. Малявин отличается большою стойкостью, упорством и верностью самому себе. Еще учеником Академии художеств, еще в классе у Репина, он выразил великую любовь свою к яркой, блистающей красной краске и к колоритным эффектам, достигаемым при ее помощи. Дальше этого он никуда не пошел. Все его этюды, эскизы и портреты полны этой блестящей красной краски. Первая картина его: «Три бабы», получила кое-где известность, но никаких особенных качеств, кроме полного неразумия, она не выказала. Нынче на выставке у него опять такие же красные смеющиеся бабы. Блестящие, но совершенно скудные и нищенские по смыслу и содержанию. Есть некоторая правдивость и интерес в лицах, в глазах (особливо у крайней левой бабы), но как все у Малявина бедно и ничтожно! Какой же это художник, совершенно ограниченный? Заметим, что когда этот живописец решался писать без красной краски и без красных эффектов, он испытывал всегда до сих пор полный провал (портреты Репина и несколько других мужских фигур, вышедших у него какими-то театральными «испанцами» старых времен).
Картины г. Бакста на декадентской выставке — ужасны. Его товарищи, внутри своей декадентской мышеловки, восхищаются им и ожидают от него великих деяний, но для тех, кто еще в мышеловку не попал и на свободе обладает здравым смыслом, его картины нынешней выставки — словно листки из забавной иллюстрированной французской книги «Les animaux peinst par eux-mêmes»: там все фигуры-собаки, обезьяны, раки, птицы, рыбы, но в человечьем платье и в человечьих делах. В нынешних своих композициях г. Бакст взял себе задачей — кошку. Всего удивительнее у него вышла картина «Ужин». Сидит у стола кошка в дамском платье; ее мордочка в виде круглой тарелки, в каком-то рогатом головном уборе; тощие лапы в дамских рукавах протянуты к столу, но она сама смотрит в сторону, словно поставленные перед нею блюда не по вкусу, а ей надо стащить что-нибудь другое на стороне; талия ее, весь склад и фигура — кошачьи, такие же противные, как у английского ломаки и урода Бердслея. Невыносимая вещь! Костюмы же его для античной драмы «Ипполит» представляют всего лишь очень плохо нарисованные экстракты из обыкновенных костюмных прописей.