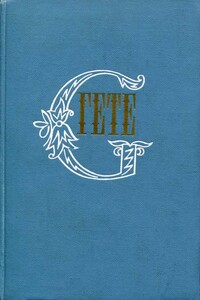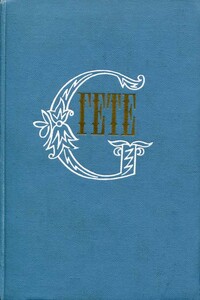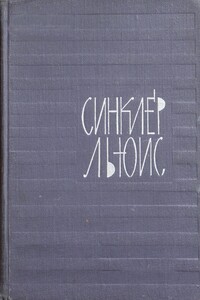А что, в самом деле? Может быть, и, действительно, санитарные палатки всего более приличны для выставок, где только и есть налицо, что уроды и калеки, несчастные люди с расколотыми черепами, вытекшими вон мозгами, исковерканными глазами, ушами и носами, корявыми руками и ногами? Разве нехорошо, когда «по Сеньке шапка»? Всем им надо компрессы ставить и лекарство в горло большими ложками лить.
Посмотрите только, какая тут коллекция.
Во главе всех стоят двое главных калек: М. Врубель и К. Сомов.
Историк, бард, герольд и истолкователь декадентского царства, г. А. Бенуа много и усердно ораторствует про них. Про Врубеля он говорит: «Дарование его — колоссальное…» «Картина его „Демон“ — поразительная…», в ней «чарующая прелесть…», здесь он «с гениальной легкостью создал свою симфонию траурных лиловых, звучно-синих (!) и мрачно-красивых тонов»; «вся павлинья красота, вся царственная пышность демонического облачения была найдена», но… после долгих проб и исканий, сам Демон «превратился из кошмарного слизня (!) в несколько театрального, патетического падшего ангела…» Удивительное здесь сочетание «гениальности со слизнем» и «глубокости» с кошмаром! Безумная завиральность Врубеля ничем, правда, не выше несообразной риторики его Баяна, но, в конце концов, все-таки является здесь тот неожиданный результат, что Врубель принадлежит «к самым отрадным явлениям современной русской школы».
Русской школы! Какая же тут русская школа, когда сам же Баян, вознося выше облака ходячего фрески Врубеля в Кирилловском монастыре, все-таки называет их только «ловким и тонким пастиччио византийских фресок», а разные другие его создания «слишком отдают неметчиной, слишком по-мюнхенски надушены (Фауст) или же неприятны своим вовсе нерусским ухарством, своим отсутствием всякой сказочности (Микула Селянинович)». И все это «русская школа»?
Славословие г. А. Бенуа про Конст. Сомова еще более изумительно. «К. Сомов, — говорит он, — не великий художник… его искусство покажется, пожалуй, мелким, а сам он — хилым ребенком», но все-таки он «настоящий поэт, настоящий визионер, настоящий, художник», он весь целиком «отдался погоне за чарующими видениями», он «пренебрегает миром», он представляет крайнюю точку «развития индивидуальности и тем самым он насквозь художник, но его искусство — настоящий, драгоценнейший алмаз». «За Сомовым — теперь — последнее слово»; «за эти десять лет Сомов — самое яркое, отрадное и типичное явление в нашей живописи…» Вот какова колоссальность К. Сомова. И опять-таки, как и по поводу Врубеля, г. А. Бенуа, в конце концов, объявляет, что Сомова он «причисляет к художникам-западникам», но что он все-таки «должен и может считаться вполне русским художником».
Как не радоваться на ту новую «русскую школу», которую открыл и проповедует г. Бенуа!
Но, кроме общего совершенства, у К. Сомова есть еще особые, тайные.
«Как у изумительных виртуозов XIX века, Дица или Конера (!), как у декадентов-художников времен римской империи или итальянского XV века», у К. Сомова «болезненность того же высокого качества, того же божественного начала, как болезненность некоторых экстатиков, пожалуй, даже и пророков. В их странной смеси уродливого и прекрасного, удивительного совершенства и странной немощи обнаруживается трагедия человеческой души, достигшей высшей точки своего развития, рвущейся уйти в другие загадочные миры и все же привязанной к житейской прозе, к скучной действительности…»
Вот как! У нас нынче есть великий художник, принадлежащий к породе пророков, бегущий прочь от житейской прозы и несущийся в загадочные миры. Какое счастье!
Однако любопытно посмотреть на необычайные создания нового художника-пророка. Идем по всей выставке, тщательно вглядываемся в коллекцию ста шестидесяти трех произведений К. Сомова на обеих декадентских выставках (кажется, достаточно тут было времени и места для проявления всевозможных сторон и качеств «пророчности»), но, к своему разочарованию, ничего другого не находим, кроме обычных уродцев, давно нам известных по прежним немногим образцам. Где полеты, где сверхземное стремление, где надзвездные порывы? Куда ни посмотришь, только одно и встречаешь у К. Сомова: французские стриженые сады и боскеты конца XVIII века, противные куклы в громадных фижмах и париках, с уродливыми заостренными вниз лицами, раскоряченными ногами, с отвратительно жеманными позами и движениями, с намазанными лицами, с прескверно нарисованными глазами, ушами, носами и пальцами и с улыбками кадавров. Все эти Версали, Ораниенбаумские и Павловские парки, с прохаживающимися там или сидящими глупыми манекенами, иногда сопровождаемыми уродливыми арапчонками (особенная срамота XVIII века), все эти игрушечные «Радуги», все эти хмазни «Вечера», с восковыми невероятными и ветошными виноградными кистями, все эти лужайки и пруды, все эти облачки и осенние солнца, а всего более, все эти мучнистые кавалеры и барыни — изображают из себя такую безобразицу, такую антихудожественность и безвкусие, что от них можно только с отвращением и злой досадой бежать поскорее вон. И этим же самым глупым фижменным пошибом К. Сомов пробует нарисовать Пушкина на скамейке в саду, пробует иллюстрировать некоторые сцены из Гоголя! Какая дерзость, какая мерзость!