Двадцатый век. Изгнанники: Пятикнижие Исааково. Вдали от Толедо. Прощай, Шанхай! - [16]
Напрасно мы ждали демобилизации, которая все не наступала и не наступала; наша жизнь в казарме отнюдь не менялась к лучшему, скорее наоборот. Зарядили дожди, казарменный плац превратился в грязную лужу, и наш фельдфебель Цукерл, окончательно озверев, поднимал нас по учебной газовой тревоге по ночам, заставлял бегать и плюхаться прямо в грязь в этих жутких ненужных противогазах, воняющих уроком химии, в которых мы были похожи на задыхающихся лягушек. При этом он кричал, что война еще не окончена и что евреи, большевики и макаронники-итальянцы просчитались. И произносил патриотические речи перед строем заляпанных грязью до корней волос солдат, у которых от недосыпа слипались глаза. Кроме того, на десерт нам сообщалось, что французы — полные говнюки, англичане — педерасты, а русские — тупые мужики, которых по пьянке тянет на революции. И поскольку мне, по уже известным тебе, читатель, причинам, не выпало счастья попасть на передовую, на линию огня, я все не мог взять в толк, как же так и почему мы и наши германские союзники — цивилизованные, дисциплинированные и отлично вооруженные, оснащенные противогазами и надраенными до блеска национальными доктринами, ведомые такими военными гениями, как Гинденбург и Гетцендорф, проиграли эту войну говнюкам, педерастам и тупым вечно пьяным мужикам. У Цукерла на этот счет было свое, может, спорное, но заслуживающее внимания объяснение: во всем виноваты евреи — подобное мне приходилось читать и в разных газетенках, причем эта мысль повторялась так часто, что уже сама собой подразумевалась, не нуждаясь ни в каких доказательствах.
Мне рассказывали об одном великом стратеге Генерального штаба, выступавшем в Берлине с докладом о причинах нашего катастрофического военного поражения, которые он четко сформулировал, лишь слегка отклонившись от общепринятой схемы: виноваты евреи и велосипедисты. Наступившую в зале тишину нарушил один-единственный смущенный голос: «А почему и велосипедисты, господин генерал?»
Но вернемся в нашу казарму — военные стратегии — не дело ума простого солдата. Рассказывая об озлоблении нашего фельдфебеля Цукерла и о полуночных учебных тревогах в условиях мнимой газовой атаки на местности с использованием иприта, следует добавить, что лично ко мне у фельдфебеля было особое отношение и, так сказать, индивидуальный подход — будто это я лично, притом на иврите, подписал акт о капитуляции в том идиотском вагоне в Компьенском лесу, к которому германцы вернутся как к переэкзаменовке спустя годы[7]. За малейший промах фельдфебель наказывал меня стоянием по стойке «смирно» под проливным дождем, и напрасны были все усилия моего цадика раввина бен Давида спасти меня от этих непосильных контрибуций за проигранную войну. С другой стороны, я с глубоким пониманием относился к страданиям бедного Цукерла: ведь рухнул смысл всей его жизни, исполненной бодрых звуков боевых труб и национальных стремлений, у него на глазах рухнул храм с одной-единственной иконой — светлым образом нашего в Бозе почившего императора Франца-Иосифа, с военным хором мобилизованных ангелов и колокольным звоном котлов солдатской кухни, щелканьем ружейных затворов и грохотом подкованных сапог. Великая некогда империя уходила в небытие; в черной или даже в красной неизвестности тонули и жизнерадостная легкомысленная Вена, и тот самый Дунай, который Цукерл, как и большинство австрийцев, по привычке считали голубым. И вся эта античная в своем мрачном величии трагедия, крах фельдфебельских идеалов, сводились к двум словам: «война окончилась», и слова эти, как ни стыдно мне об этом вспоминать, произнес именно я. В конечном итоге именно я оказался тем гонцом, тем вестеносцем, который сообщил ему о поражении, а ведь известно, что в былые времена милостивые и мудрые короли и султаны, не моргнув глазом, обезглавливали гонцов, принесших дурную весть. На фоне нравов кровавого средневековья мое стояние под дождем в полной боевой выкладке было просто улыбкой судьбы и проявлением щедрого великодушия со стороны Цукерла. Иными словами, я был полным дураком, который с легкомысленной и беспричинной радостью сообщил ему эту печальную весть без должной деликатности и осторожности, не постаравшись продемонстрировать глубокую сопричастность к обрушившейся на нас общей беде, как это пристало хорошо обученному и воспитанному в патриотическом духе верноподданному и солдату Его Величества. Совсем как тот дурак Мендель, которому доверили сообщить супруге, что ее муж Шломо Рубинштейн получил инфаркт за карточным столом.
— Я к вам прямо из кафе, — начал он издалека.
— Мой муженек, Шломо, наверно, все еще там.
— Там.
— И, наверно, играет в покер?
— Играет.
— И, наверно, как всегда, проигрывает?
— Да.
— Чтоб он сдох!
— Только что сдох. Господь услышал ваши молитвы.
Так что теперь я думаю, что мне следовало в подобный — переломный, как любят выражаться авторы, — момент трагической судьбы нашей империи проявить больше такта.
Но не только наш фельдфебель тяжело переживал это поражение — все чаще поручик Шауэр появлялся перед нашим победоносным строем мертвецки пьяным. Он пытался произносить речи — в смысле, что наше дело бессмертно как сама империя и что наступит день… и прочее — заплетающимся языком, но в его риторике уже не присутствовали наши головы, сложенные на поле боя за отечество, и лавровые венки победителей. Как говорится, история внесла свои небольшие авторские коррективы. А будучи трезвым, или, простите, за грубость, не в жопу пьяным, он о чем-то шушукался с фельдфебелем, а затем запускал во двор казармы двух сомнительного вида господ, приехавших на фуре, и они вчетвером запирались в канцелярии. После подобных закрытых пленарных заседаний от наших бдительных очей не ускользали ни загадочное исчезновение одеял, сапог и другого обозного скарба, ни тот факт, что солдатский суп становился все прозрачней, а ошметки мяса в гуляше — все мельче. Я поделился с ребе бен Давидом своими соображениями о метафизической связи между визитами господ на фуре и драматически устремившейся вниз кривой протеинов в нашем солдатском рационе, на что тот глубокомысленно ответил:
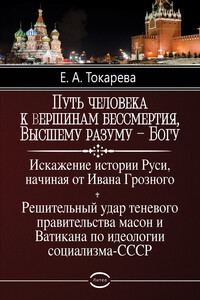
Прошло 10 лет после гибели автора этой книги Токаревой Елены Алексеевны. Настала пора публикации данной работы, хотя свои мысли она озвучивала и при жизни, за что и поплатилась своей жизнью. Помни это читатель и знай, что Слово великая сила, которая угодна не каждому, особенно власти. Книга посвящена многим событиям, происходящим в ХХ в., включая историческое прошлое со времён Ивана Грозного. Особенность данной работы заключается в перекличке столетий. Идеология социализма, равноправия и справедливости для всех народов СССР являлась примером для подражания всему человечеству с развитием усовершенствования этой идеологии, но, увы.

Установленный в России начиная с 1991 года господином Ельциным единоличный режим правления страной, лишивший граждан основных экономических, а также социальных прав и свобод, приобрел черты, характерные для организованного преступного сообщества.Причины этого явления и его последствия можно понять, проследив на страницах романа «Выбор» историю простых граждан нашей страны на отрезке времени с 1989-го по 1996 год.Воспитанные советским режимом в духе коллективизма граждане и в мыслях не допускали, что средства массовой информации, подконтрольные государству, могут бесстыдно лгать.В таких условиях простому человеку надлежало сделать свой выбор: остаться приверженным идеалам добра и справедливости или пополнить новоявленную стаю, где «человек человеку – волк».
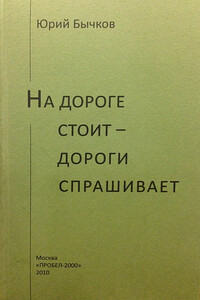
Как и в первой книге трилогии «Предназначение», авторская, личная интонация придаёт историческому по существу повествованию характер душевной исповеди. Эффект переноса читателя в описываемую эпоху разителен, впечатляющ – пятидесятые годы, неизвестные нынешнему поколению, становятся близкими, понятными, важными в осознании протяжённого во времени понятия Родина. Поэтические включения в прозаический текст и в целом поэтическая структура книги «На дороге стоит – дороги спрашивает» воспринимаеются как яркая характеристическая черта пятидесятых годов, в которых себя в полной мере делами, свершениями, проявили как физики, так и лирики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повести и рассказы молодого петербургского писателя Антона Задорожного, вошедшие в эту книгу, раскрывают современное состояние готической прозы в авторском понимании этого жанра. Произведения написаны в период с 2011 по 2014 год на стыке психологического реализма, мистики и постмодерна и затрагивают социально заостренные темы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Безымянный герой романа С. Игова «Олени» — в мировой словесности не одинок. Гётевский Вертер; Треплев из «Чайки» Чехова; «великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда… История несовместности иллюзорной мечты и «тысячелетия на дворе» — многолика и бесконечна. Еще одна подобная история, весьма небанально изложенная, — и составляет содержание романа. «Тот непонятный ужас, который я пережил прошлым летом, показался мне знаком того, что человек никуда не может скрыться от реального ужаса действительности», — говорит его герой.

Две повести Виктора Паскова, составившие эту книгу, — своеобразный диалог автора с самим собой. А два ее героя — два мальчика, умные не по годам, — две «модели», сегодня еще более явные, чем тридцать лет назад. Ребенок таков, каков мир и люди в нем. Фарисейство и ложь, в которых проходит жизнь Александра («Незрелые убийства»), — и открытость и честность, дарованные Виктору («Баллада о Георге Хениге»). Год спустя после опубликования первой повести (1986), в которой были увидены лишь цинизм и скандальность, а на самом деле — горечь и трезвость, — Пасков сам себе (и своим читателям!) ответил «Балладой…», с этим ее почти наивным романтизмом, также не исключившим ни трезвости, ни реалистичности, но осененным честью и благородством.

Знаменитый роман Теодоры Димовой по счастливому стечению обстоятельств написан в Болгарии. Хотя, как кажется, мог бы появиться в любой из тех стран мира, которые сегодня принято называть «цивилизованными». Например — в России… Роман Димовой написан с цветаевской неистовостью и бесстрашием — и с цветаевской исповедальностью. С неженской — тоже цветаевской — силой. Впрочем, как знать… Может, как раз — женской. Недаром роман называется «Матери».

«Это — мираж, дым, фикция!.. Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует!.. Разруха сидит… в головах!» Этот несуществующий эпиграф к роману Владимира Зарева — из повести Булгакова «Собачье сердце». Зарев рассказывает историю двойного фиаско: абсолютно вписавшегося в «новую жизнь» бизнесмена Бояна Тилева и столь же абсолютно не вписавшегося в нее писателя Мартина Сестримского. Их жизни воссозданы с почти документалистской тщательностью, снимающей опасность примитивного морализаторства.