Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков - [29]
Я решил: на суде я сажусь ближе к окну. Прочтут смертный приговор. — В окно! Там пускай достреливают, Есть хоть один шанс уцелеть. И приготовился: взял нож, деньги, компас. Надел две цветные рубашки, чтобы переменить костюм, засунул в карман запасную кепку. Это было все, что я мог сделать, для подготовки к побегу.
Зал суда... Посередине, на возвышении стол, покрытый красной скатертью, сбоку — маленький для секретаря, внизу — наши скамейки.
Суд открытый. В зале 2-3 слушателя.
«Встать — суд идет!»
Три судьи. Среди них мой следователь. Сторон не было.
Суд начался...
Часа три продолжался допрос. Затем задавали отдельные вопросы. И перерыв.
Мы обменялись мнениями. Казалось, все идет хорошо.
После перерыва нам было предоставлено последнее слово.
Очень хорошо, разбивая обвинение, говорил Герутц. Совершенно заврался И-в. Нес ужасную чепуху дезертировавший из красной армии и перешедший к белым, молодой деревенский парень: он «нечаянно» прошел около 60-ти верст... Судьи смеялись.
Я говорил очень коротко, избегая резкостей, и не касаясь сущности дела. Все равно никого не убедишь...
Суд удалился на совещание.
Нервы сдали... Каждый думал свою думу. Но вот наши головы поднялись. Послышались отдельные фразы... Сначала шопотом. потом начался разговор. Казалось опасаться нечего.
Прошло пол часа... Час... Что-то долго... Взяли сомнения.
А за ними пахнуло и смертью. — Секретарь прошел к конвою. Конвой усилился и толпой вошел в зал. Что-то не ладно...
«Встать, суд идет!».
Лица судей изменились... Будет смертный приговор. Но кому?
Приговор состоял из краткого повторения обвинительного акта и постановления суда.
Первой части я не слушал. Я старался только уловить на каком месте по порядку стоит моя фамилия... Она шла пятой.
Может быть не расстреляют, но надо быть наготове... Я подвинулся к окну.
Председатель отчетливо, громко, и казалось, томительно долго, читал первую часть... Но вот...
«Суд постановил: бывшего Начальника Разведывательного отделения Железнодорожного фронта, бывшего Шт.-Кап. Герутца, крестьянина Н-ской губернии, деревни Б. И-ва и крестьянина деревни Е. К-ва, приговорить к высшей мере наказания: к расстрелу!»... подчеркнул последние слова председатель...
Дальше я опять не слушал... и только отрывки фраз долетали до моего сознания... «10 лет... Бессонов 5 лет...» и дальше что-то такое, «... но принимая во внимание предварительное заключение, какие-то амнистии... от наказания освободить.»
Герутц был бледен, как полотно, но спокойно, разумно, ссылаясь на договор, подписанный Ген. В-м, доказывал, что суд не имел права вынести ему такой приговор. И-в плакал и метался...
У дезертира К-ва волосы стали дыбом... Так просто — встали дыбом... Сперва лежали, а потом встали. На голове, у него образовалось шапка из торчащих в разные стороны, каких-то неестественно прямых, длинных волос.
Конвоиры подошли к ним вплотную, и, окружив штыками начали загонять в угол.
Через несколько минут их под усиленным конвоем повели в камеру «смертников»...
Я не выдержал, отвернулся, но продолжал стоять на месте.
«Вам сейчас выдадут документы», — обратился ко мне мой следователь, «вы свободны»...
Все вертелось в моей голове. Этот приговор, лица смертников, радость, что я жив, какая-то свобода...
Я с трудом понимал свое положение.
Оказалось, что мы все приговорены на разные сроки, но нам учтены разные амнистии, и мы свободны. Я был готов ко всему, но только не к немедленному восприятию свободы.
Документы получены, и 5 из 11-ти на улице... Жизнь и смерть еще не расплелись... На лицах неопределенные улыбки... нет слов... В голове неясно... Печаль борется с радостью.
Трудно передать ощущение свободы. Только тот, кто переживал поймет это... Жаль, что жизнь скоро стушевывает это ощущение счастья... Сидя ночью, с одним из выпущенных, в семье, приютившей нас, мы не спали, а полной грудью вдыхали это чувство и были действительно счастливыми людьми...
Опасность миновала... Но не совсем. Нужно было немедленно уносить ноги. Случаи вторичных арестов, и потом расстрела были обычным явлением.
Помаявшись перед визитом в «Особый отдел» за пропуском на выезд из Архангельска, я все-таки получил его, и на следующий же день, сел в вагон.
Поезд двинулся и в окнах замелькали знакомые места. В моей памяти рисовались картины недавнего прошлого.
Вот «Разъезд 21-ой версты»... Принудительные работы... Ст. Плясецкая, мой ветеринарный лазарет... Белые и красные.
Много тяжелых переживаний... Но все в прошлом. Жизнь впереди.
Нелегальный
Устал я... Хотелось отдохнуть. Остановиться. Сделать передышку.
Довольно авантюр, тюрем, побегов, допросов, судов.
Автоматически, после выпуска из тюрьмы, я считался мобилизованным и получил предписание отправиться на Советско-Польский фронт, куда-то за город Смоленск. Но довольно войны, довольно драки... Довольно белых, красных, поляков. Все хороши... Попробовал...»
Что же делать?
Я знал, что если я предоставлю себя течению, то, как бывший офицер, вскоре займу какой-нибудь пост. Надо было выходить из положения.
До фронта я не доехал, то есть вернее свернул в сторону и засел в местечке «Полота» близ Полоцка. Служить надо было, хотя бы первое время, во чтобы то ни стало. И, я нанялся в Конское Депо. На моей обязанности лежала приемка лошадей, наблюдение за их уходом и сдача их в армию.
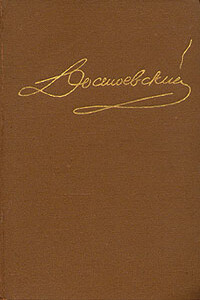
В Тринадцатом томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатается «Дневник писателя» за 1876 год.http://ruslit.traumlibrary.net.

В девятнадцатый том собрания сочинений вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1925–1926 годах. После первой публикации эта часть произведения, как и другие части, автором не редактировалась.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Художественная манера Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936) своеобразна, артистична, а творчество пронизано искренним поэтическим чувством, глубоко гуманистично: искусство, по мнению художника, «должно создаваться во имя любви, человечности и частного случая».

Воспоминания написаны вскоре после кончины поэта Максимилиана Александровича Волошина (1877—1932), с которым Цветаева была знакома и дружна с конца 1910 года.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.