Два моих крыла - [44]
— Да у вас просто замечательное сердце, как у хорошо тренированного мужчины. Давление и до, и после одинаковое. «Рыбочка» ваша не от этого плещется. Вы тяжести поднимаете?
— А как же! — с гордостью поглядела на доктора Дуня. — Мешок с мукой в конплекс директор же не понесет на себе или молоко на коромысле. Я этого молока знаешь сколько натаскиваю за день, пока телята маленькие?
— Сколько? — улыбнулся доктор.
— А два центнера. Вот на них, на плечиках этих, — она попеременно похлопала свои плечи.
— Тут не мудрено в середке не только рыбочке заплескаться, — возмущенно запыхтел доктор. — Неужели деревня все так же на плечах держится?
— Да нет. У нас в районе есть образцово-показательное хозяйство. Всех туда возят. Так оно одно.
Прием закончился. Дуня шла домой молча. Я не мешала ей думать над советами доцента, зная, что все пойдет так, как шло. Только достанет Дуня свою траву пижму, которой она лечится от всех болезней на свете, и примется пить ее. Теперь — от надсады.
По возрасту Дуня мне в матери годится. Но обе мы с ней какие-то обломки от нашей родовы. Все рано умерли, кого из дедов бандиты убили в двадцать первом, когда коммуна организовывалась, кто в войну погиб, кого война догнала уже в Сибири. Вот так мы и обогреваем друг друга. Обеих нас предки наградили высокими скулами. Как-то расхохотались враз да враз и в зеркало глянули — никаких глаз, одни щелочки.
Поди теперь ищи басурмана, который нам эти скулы надежно пришлепнул!
— Ты не расстраивайся, — говорила мне Дуня, — нас не сломаешь и не согнешь. Пока толстый усыхает, тонкий скончается! — И хохотала оглушительно, хлопая себя по широченным бедрам. — Эко место бог дал! Сколь бы робят нарожала, ежели бы не война! — И отходила от зеркала, заново и туго повязывая платок.
Мне майонез не жалко было возить в деревню. Только как же это так, думала я, всю жизнь деревенские, ставшие горожанами, облизываясь, вспоминали о блинах со сметаной, которую хоть ножом режь, о яйцах с ярко-красным глазком — словом, о натуральной деревенской еде, а теперь все это куда-то подевалось, даже яйца стала возить Дуне.
Пока она выкладывала мои городские гостинцы, я успела в перине утонуть.
— Слышь, Дуня, а куда у вас все-таки сметана-то девается? Все же многие коров держат.
— Да где же многие. Из наших секисовских мало кто. На что им? Робята все по городам, а сами малым обходятся, свинью бы продержать. Старые, чтоб сызнова хозяйство заводить. Чего тебе эта сметана покою сколь время не дает? — заглянула она в горницу.
— Да нет же, не столько она, сколько вообще, — невразумительно ответила я, и сама толком не понимая, как же приступить к этой неясной картине, когда всякие там заменители уже и в деревню просочились полноправно и даже завоевали симпатии. А куда же все нормальное девается?
— Дунь, — кричу я ей за загородку, — а масло-то у вас тут кто-нибудь бьет?
— Господи! Все молоком уходит, — возмущается она моей непонятливости. — Кому охота масло бить? Сел на машину — и в город за маслом. Молоко теперь тоже не разбежишься купить, в очередь…
— Как это — в очередь?
— Ну, записываются, кто за кем.
— Обалдеть… — тяну я.
— И на гусей к Ефрему нынче опять записываются, — проворно снимая с картофелины кожуру, информировала меня Дуня.
— Слушай, а чего гусей не держат?
— Сколь уж раз тебе говорила — наши секисовски все повдоль дороги налажены жить, вон погляди в окно, кишкой вытянули нас к району. А каки гуси у дороги? Пробовали. Дак одно расстройство. А Ефрему че — он у самого озера. Подавиться не может, холера. Другие хоть детям кормят птицу, а этот всякой копейкой налюбоваться не может.
Ефрем Калачев — фигура в деревне всем известная. Дуня о нем и словечка спокойно вымолвить не может. Даже скулы бледнеют, когда о нем говорит.
Ефрем мне сперва нравился. Обстоятельностью, всей своей чалдонской сутью и ухватистостью. Я даже зачастила было к ним, к его сухонькой и как будто переставшей стариться жене Грапе. Ходила и ходила. На лавочке сидела, на крылечке, то лук помогала перебирать, то шерсть теребить. Тут каждого незаметно, но прочно включали в работу. Забежишь на минутку, а гляди — за разговором и носки старые распустишь, или напялили тебе на руки пряжу да в клубок ее сматывают. Труда особого не затратил и поговорить поговорил. И не в тягость, и услужил. Когда часто ездишь, не замечаешь перемен в облике давно знакомых людей. Но как-то глянула я на Грапу и едва не задохнулась от своего открытия — у нее все эти годы старились только губы! Да их вообще не стало на лице. Две синие полосочки, иссеченные поперечными бороздками, глубокими, неровными. Один рот и бросался в глаза. А лицо будто вправили в черный платок, и оно желтело застывшей маской. А уж после того, как я по крестьянской привычке подошла к кадушке да напилась из ковша — привычка в деревне примелькавшаяся, — а она, Грапка эта, схватила ковшик с недопитой водой и утащила в баню, и только слышно было, как со скрипом и скрежетом она по ковшу золой швырк-швырк-шварк-шварк, словно я приползла из тифозного барака или умираю от скоротечной чахотки, тут уж я медузу эту засушенную возненавидела.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

Анатолию Емельянову присущ неиссякаемый интерес к жизни сел Нечерноземья.Издавна у чувашей считалось, что в засушливом году — тринадцать месяцев. Именно в страшную засуху и разворачиваются события заглавной повести, где автор касается самых злободневных вопросов жизни чувашского села, рисует благородный труд хлеборобов, высвечивает в характерах героев их высокую одухотворенность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник вошли произведения известных и малоизвестных широкому кругу читателей авторов, которые занимали и занимают свое место в истории, становлении и развитии нашей литературы, — рассказы А.Фадеева, К.Федина, Ю.Тынянова, В.Каверина и других советских писателей. Многие из этих авторов знакомы читателям как авторы романов, драматических произведений. И в этом сборнике они открываются с новой стороны.
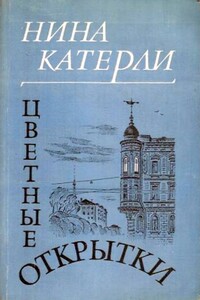
«Цветные открытки» — вторая книга ленинградской писательницы. Первая — «Окно» — опубликована в 1981 году.
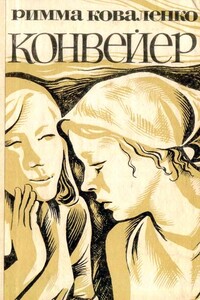
С писательницей Риммой Коваленко читатель встречался на страницах журналов, знаком с ее сборником рассказов «Как было — не будет» и другими книгами.«Конвейер» — новая книга писательницы. В нее входят три повести: «Рядовой Яковлев», «Родня», «Конвейер».Все они написаны на неизменно волнующие автора морально-этические темы. Особенно близка Р. Коваленко судьба женщины, нашей современницы, детство и юность которой прошли в трудные годы Великой Отечественной войны.
